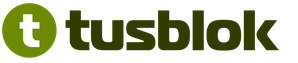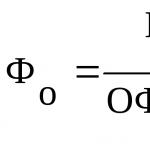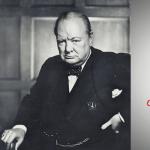Преподобный Дионисий родился в городе Ржеве и еще в детстве переселился с родителями в Старицу на Волге. Он был ребенком тихим, от игр со сверстниками отказывался, и они его не раз колотили: подумаешь, мол, гордый какой, считает, наверно, что он лучше и умнее других. Но мальчик, наоборот, был кроток и, хотя был необыкновенным, сам себя таким не считал.
Когда он выучился грамоте и достиг совершеннолетия, то родители женили его против его воли.
Он всегда старался соблюдать Божьи заповеди, и вскоре все стали это замечать. И церковное начальство поставило его священником. Он служил в одном из окрестных сел, в 12-ти верстах от города.
Так прошло шесть лет. Как вдруг случилось ужасное: внезапно заболели и один за другим умерли его жена и двое сыновей-малюток. Сильно горевал Дионисий. Но что же делать! Надо жить дальше. Теперь он был одинок и свободен, поэтому пошел в Старицкую обитель и принял монашество.
Как-то раз по церковным делам Дионисий приехал в Москву. Он хотел купить книгу и зашел на базар. Молодой и красивый, монах резко выделялся среди простого и грубоватого люда. И один мужик, стоявший за прилавком, стал оскорблять его. - Тебе тут не место, монашек! - сказал он. - Ступай лучше развлекаться с барышнями, они любят таких красавчиков.
Но Дионисий не возмутился и без всякой злобы отвечал обидчику:
Ты прав, брат, я действительно такой грешник, как ты думаешь. Видно, Бог тебе открыл, что я плохой человек. Будь я настоящим иноком, то не слонялся бы по торжищу среди мирских людей, а сидел бы у себя в келье. Прости меня грешного, Бога ради.
Люди, стоявшие рядом, изумились и умилились. Здесь, в рыночных рядах, никто не лез за словом в карман, и ругань была обычным делом. И вдруг молодой человек, с лицом, как у Ангела, смиренно терпит оскорбления и соглашается, что получил поделом. Кто-то не выдержал и крикнул мужику-торговцу:
Экий ты невежа! Стыда у тебя нет!
Нет, братья, - сказал инок, - это я виноват. Мое дело - келья да монастырь, а я шатаюсь по базару, как бездельник. Этого человека Сам Господь мне послал, чтобы я опомнился и в разум пришел. - Благодарю тебя, брат!
И он поклонился оскорбителю.
Тот сначала стоял, как громом пораженный, а потом попытался попросить прощения, но инок уже скрылся.
Через некоторое время Дионисия сделали настоятелем монастыря.
Скоро после этого в Старицкую обитель под стражей привезли патриарха Иова. Кто же его лишил самого высокого церковного сана? Кто заточил достойного и честного Иова в монастырь, как в тюрьму? Это были враги святой Руси. И сделали они это по приказанию Лжедимитрия. Этот проходимец действительно был лжецом. Он при поддержке врагов вошел в Москву. Он всех обманул, сказав, что якобы является сыном царя Ивана Грозного, который недавно умер, наследником престола. И сам объявил себя государем.
Лжедимитрий велел Дионисию содержать патриарха строго, «в озлоблении скорбном». Иов мешал самозванцу, потому что не признавал его сыном царя. Он называл Лжедимитрия вором и богоотступником, а его помощников - изменниками. В своих грамотах Иов писал, что новый царь - «расстрига (изгнанный из Церкви служитель), известный вор и сын простолюдина». И говорил: «Да будет анафема!». То есть: эти люди должны быть отлучены от Церкви и прокляты. А Лжедимитрий от злобы бесился. Он боялся разоблачения и хотел поскорее избавиться от Иова.
Но святой Дионисий принял изгнанного патриарха с любовью и во всех своих делах спрашивал у него совета. Это очень утешало невинного страдальца.
Лжедимитрий пробыл на царском престоле меньше года. Вскоре возмущенные москвичи его убили, и наступило время, которое называется Смутным. Смута в стране - это как муть в воде, которая раньше была чистой, а теперь грязь поднялась со дна. Повсюду поднялись бунты, крестьянские восстания, а заодно приходилось воевать с чужеземными захватчиками. Потому что польское и литовское войско подступило к Москве. Всюду было разорение, убийство и безобразие.
Случилось как-то преподобному Дионисию возвращаться из Ярославля с одним боярином. Дорога же была тогда опасная, и много проливалось крови честных людей при нападениях разбойников. Поэтому архимандрит Дионисий сговорился со своими спутниками называться Сергиевыми. Имя святого Сергия Радонежского известно тогда было по всей Руси, и ни у одного душегуба не поднялась бы рука на друзей самого Сергия.
Если, говорил Дионисий, - поедем мы дорогой просто как есть, то нас ограбят воры и, может, даже убьют, а если будем называться именем чудотворца Сергия, то спасемся.
И точно, не раз останавливали их люди со зверскими физиономиями, готовые без раздумий пустить в ход нож или топор.
Кто такие? - грозно спрашивали они путников. - И куда следуете?
Мы - Сергиевы, - отвечали те. - И едем в лавру.
И это была правда, они действительно направлялись в лавру, Троице-Сергиев монастырь.
Ладно, - отвечали лихие люди. - Коли так, то проезжайте.
И проехали они многие опасные места. Недалеко от лавры их встретил Троицкий служитель испросил:
Кто едет?
Они отвечали:
Старцы Троице-Сергиева монастыря, едем из монастырских сел.
Но тот, зная всех своих старцев, не поверил и говорит:
Не Старицкий ли это архимандрит, к которому я послан с грамотами от царя и патриарха?
И вручил Дионисию грамоты, из которых преподобный узнал, что назначен настоятелем Троице-Сергиевой лавры.
Изумился Дионисий, что едва именем Сергия Радонежского спасся он от разбойников, как воля Божия ставит его управлять лаврой, которую основал и прославил сам преподобный Сергий.
И пролил Дионисий обильные и радости слезы.
А лавра только-только отбила осаду вражеского войска. Теперь, получается, Дионисий становился не просто главой лаврских монахов, но заодно и их полководцем, военачальником. Потому что иноки не только молились Богу в русских монастырях, но и в тяжелый час отважно, с оружием в руках, защищали их стены, запираясь внутри, как в крепости.
Страшное было время. Народ страдал от зверства вражеских шаек. Толпы русских людей, нагих, босых, измученных, бежали к Троицкой обители, как к единственной надежной защите. Одни из них были изуродованы огнем, у других вырваны на голове волосы. Множество калек лежало у дорог, израненных, без рук, без ног, в ожогах от раскаленных камней, которыми их пытали.
Вся обитель Святой Троицы наполнилась больными, голодными и умирающими. И в окрестных деревнях было то же самое.
Со слезами умолял святой Дионисий лаврских монахов помогать несчастным. Они же отвечали ему с безнадежной грустью:
Кто же, отче, в такой беде не опустит рук? Как помочь-то? Разве на такое множество хватит пищи и целебных снадобий?
Но Дионисий, рыдая, говорил:
Вот в таких-то искушениях и нужно проявлять твердость в вере и любовь к ближнему. Как бы за наше неверие, леность и скупость не наказал нас Господь!
Умилились иноки от его плача и стали спрашивать у него, как же быть. А он продолжал:
Послушайте меня, братья! Вы видели, что Москва в осаде, а враги по всей земле нашей рассыпались. Сейчас в монастыре людей много, но мало среди них способных сражаться, и те погибают от болезней, голода и ран. Вспомните, друзья, когда мы клялись Господу, обещали Ему в иночестве умереть, умереть, а не жить. Если в таких бедах не будет у нас воинов-защитников, то что будет? Итак, все, что у нас есть в погребах: хлеб ржаной, пшеницу и квас, - все отдадим, братья, раненым, а сами будем есть хлеб овсяный, без кваса, с одной водой, - и не умрем. Мы ведь под защитой Самого Господа и Его чудотворцев. Чего нам бояться? Не погибнет святая обитель.
И вот закипела деятельность. Преподобный Дионисий посылал монахов и монастырских слуг подбирать несчастных по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. На деньги из монастырской казны начали строить деревянные дома для больных и бездомных. Нашлись для них и врачи. И монахи всех лечили и кормили, а сами ели только хлеб из овса, и то раз в день. И пили одну воду. И дежурили братья возле больных днем и ночью.
И, по Божьей милости, чудесным образом не заканчивался в монастырских погребах хлеб для голодных и раненых.
Но все равно иноки похоронили многое множество таких людей, которым уже ничем нельзя было помочь. Беды и несчастья продолжались полтора года. И никогда в одну могилу не клали одного, а всегда по нескольку усопших - так их было много. И всех отпевали в церкви, как положено, и хоронили с христианскими почестями.
И все полтора года Москва была в осаде, и все полтора года стоял непрестанно Дионисий на молитве и в церкви Божией, и в келье, и много слез пролил за русский народ.
Он рассылал грамоты по городам с призывом встать на защиту Родины.
«Вспомним, - говорилось там, - истинную православную веру и встанем сообща против предателей и против вечных врагов христианства! Сами видите, какое разорение устроили они в Московском государстве. Если мы обратимся к Богу, и Пречистой Богородице, и всем святым, обещая сотворить подвиг веры, то Милостивый Владыка отвратит от нас праведный Свой гнев и избавит от лютой смерти и порабощения иноверцами».
А когда пришло из Нижнего Новгорода сразиться с врагом войско Минина и Пожарского, святой Дионисий благословил ратных людей на подвиг.
Из лавры посылали войску церковные одежды, украшенные жемчугом, чтобы эти драгоценности можно было продать, а на вырученные деньги купить для воинов пищу и оружие. И с Божьей помощью столица была очищена от врагов.
Дионисий принялся восстанавливать Троицкую лавру. Ее башни и стены после осады были сильно разрушены; уцелевшие от огня кельи стояли без крыш. Многие работники из мирских разбежались.
Но испытания для Дионисия не кончились. Недруги и завистники стали распространять о нем лживые слухи. И заключен был преподобный в Новоспасском монастыре.
Там его морили голодом и томили дымом, и заставляли каждый день совершать по тысяче поклонов. А преподобный сам к этой тысяче добавлял еще тысячу.
По праздникам его водили, а иногда возили верхом на старой кляче, к митрополиту на смирение. Здесь в оковах он стоял на открытом дворе в летний зной с утра до вечерней службы. И даже чаши воды не давали ему. А грубые и злобные невежды всячески издевались над ним, даже бросали в него грязью. Но преподобный все принимал со смирением, спокойно, без гнева, только молился за обидчиков Богу.
Чернь, то есть простолюдины, толпами выходила на улицу, когда на худой лошади везли святого старца из обители или в обитель, чтобы над ним потешаться и бросать в него камнями и грязью. Но Дионисий всегда был спокоен и ни к кому не испытывал злых чувств.
Потом его оправдали и отпустили в Троице-Сергиеву лавру. Но еще много раз потерпел он от завистников клевету и даже издевательства. И все перенес. От него же самого никогда не слышали ничего обидного. Если надо было поручить иноку какое-нибудь дело, Дионисий обычно говорил:
Сделай, если хочешь.
Так что те, кто были ленивы, обычно не выполняли поручение.
Тогда добрый наставник, помолчав немного, говорил:
Время, брат, исполнить повеление: иди и сделай.
Так, в подвигах и заботах о братии монастыря и обо всей Руси провел оставшиеся дни жизни святой Дионисий. А когда отошел к Господу, то много чудес совершилось у его гроба и по молитвам к нему.
ВОИН ХРИСТОВ
Дионисий был воин Христов,
Как в доспехи, закован в молитву,
Созывал он монахов на битву
Против всех нечестивых врагов.
Остальные же все для него
Были словно родные и братья,
Не жалел он для них ничего,
Как отец, раскрывая объятья.
Он для правды, для бедных людей,
Все бы сделал, последнее отдал,
Был великим, но вовсе не гордым
В этой святости тихой своей.
Был исполнен он внутренних сил,
С благодарностью нес он страданье,
И наградой ему -почитанье
Ото всей необъятной Руси.
25 мая исполняется 375 лет со дня преставления защитника Троице-Сергиевой лавры преподобного Дионисия Радонежского
Преподобный Дионисий Радонежский
Статья из т. VIII «Православной Энциклопедии», Москва. 2004 г.
Дионисий (Зобниновский (Зобнинов, Зобнинский) Давид Федорович; ок. 1570, г. Ржев - ок. 5.05.1633, Троице-Сергиев мон-рь), прп. (пам. 12 мая, в воскре-сенье после 29 июня - в Соборе Тверских святых, 6 июля - в Соборе Радонежских святых, в воскресенье перед 26 авг.- в Соборе Московских святых), Радонежский.
Главным источником сведений о жизни Д. является Житие, написанное его уче-ником Симоном (Азарьиным) по просьбе Боголепа (Львова), насельника Кожеезер-ского в честь Богоявления муж. мон-ря. Симон, приняв в 1624 г. постриг в Троице-Сергиевом мон-ре, после того как он был чудесным образом исцелен по молитве Д., неск. лет жил в келье преподобного. К работе над Житием Симон приступил во 2-й пол. 40-х гг. XVII в. При написании текста он опрашивал насельников мон-ря, др. людей. Недовольный своей работой, он обратился к одному из ближайших сотруд-ников Д. - свящ. Иоанну Наседке с просьбой записать воспоминания о Д. и полу-ченную обширную записку присоединил к Житию. Симон пишет о создании основ-ной части Жития к 1648 г. (по мнению О. А. Белобровой, Житие было завершено между 1648 и 1654). Житие сохранилось в автографе Симона - ГИМ. Син. № 416 (Белоброва и Б. М. Клосс не считают эту ркп. целиком написанной Симоном, по мнению исследователей, книжник лишь исправил ее). В данном списке вместе с Жи-тием и запиской Иоанна Наседки Симон поместил созданные им тропарь и канон преподобному, а также комплекс материалов, связанных с судом над Д. в связи с предпринятой преподобным книжной справой. В XIX в. Житие Д. публиковалось по др. спискам, не полностью. В изданиях Жития 1808–1834 гг. помещен канон, отлич-ный от канона Симона (Азарьина), по мнению архим. Леонида (Кавелина), 2-й канон был составлен митр. Платоном (Левшиным).
Д. род. в посадской семье, в крещении получил имя Давид. Когда ему было 5–6 лет, родители переехали из Ржевы в Старицу, где отец стал старостой Ямской слобо-ды. Мальчика обучали грамоте местные священники Гурий Ржевитин и Георгий Тулупов (в иночестве Герман). По настоянию родителей Д. женился, затем стал свя-щенником при ц. Богоявления в одном из владений Старицкого в честь Успения Пресв. Богородицы муж. мон-ря - с. Ильинском Раменской вол. Старицкого у. После смерти жены Вассы и детей ок. 1601–1602 гг. свящ. Давид принял постриг в Старицком мон-ре с именем Дионисий. Здесь он вскоре стал казначеем, затем, по-видимому в сер. 1605 г. или в авг. 1607 г., архимандритом. Успенский Старицкий мон-рь, пользовавшийся особым покровительством царя Иоанна IV Васильевича и своего постриженика патриарха св. Иова, был в нач. XVII в. большой богатой обите-лью, в к-рой жили 73 монаха. В мон-ре имелось собрание рукописей с сочинениями преподобных Ефрема Сирина и Симеона Нового Богослова, свт. Григория Богосло-ва; в годы настоятельства Д. оно увеличилось за счет собрания книг свт. Иова. Во-преки инструкциям Лжедмитрия I Д. оказал теплый прием сосланному в Старицкий мон-рь низложенному патриарху Иову. Исследователи предполагают, что Д. сопро-вождал святителя во время его поездки в февр. 1607 г. в Москву, когда москвичи просили прощения у первосвятителя за его изгнание; тогда же произошло знакомство Д. с патриархом сщмч. Ермогеном. Трудами Д. на могиле свт. Иова было постав-лено каменное надгробие.
В Старицком мон-ре Д. пробыл настоятелем более 2 лет. Во время осады Москвы войсками Лжедмитрия II Д. находился в Москве, где, по свидетельству Симона (Азарьина), стал одним из ближайших помощников патриарха Ермогена. Вместе с первосвятителем Д. поддерживал царя Василия Иоанновича Шуйского, проявляя ре-шительность и стойкость в самых трудных обстоятельствах. В февр. 1610 г. Д. был поставлен архимандритом Троице-Сергиева мон-ря. В сент. того же года патриарх Ермоген дал значительный (100 р.) вклад в Троицкую обитель.
Как настоятель Д. оказался перед лицом очень трудных задач. В мон-ре, только что пережившем многомесячную осаду польско-литов. войск, а также в его округе находилось большое количество больных и раненых людей, умиравших от голода и болезней. По свидетельству свящ. с. Клементьева Иоанна Наседки, Д., несмотря на сопротивление части братии во главе с келарем Авраамием (Палицыным), добился того, что средства монастырской казны были использованы для поддержки этих лю-дей. Для призрения больных и раненых были построены дома в Служней слободе и в Клементьеве. Специальные приставы собирали и привозили туда больных и нуж-давшихся, давали им пищу и одежду. Мон-рь оплачивал услуги людей, к-рые готовили для них пищу и стирали одежду, были найдены врачи. Священники причащали умирающих и совершали погребение. Ближайшими помощниками Д. в этих заботах были его ученик прп. Дорофей, распределявший помощь, и Иоанн Наседка.
Когда в кон. зимы 1611 г. началось восстание против захвативших Москву польско-литов. интервентов, Д. посылал свои грамоты в «смутные города», призывая к объединению для борьбы с врагом. В этих несохранившихся посланиях, по свиде-тельству Иоанна Наседки, Д. приводил примеры того, как Сам Бог «помощник был бедным, и отчаянным, и худым, и не могущим стояти против супостатом». Когда 19 марта 1611 г. в Троице-Сергиевом мон-ре узнали о восстании в Москве, для усиле-ния собиравшихся под Москвой войск Первого ополчения были посланы 50 мона-стырских слуг и 200 стрельцов. Приходившим в мон-рь раненым ратникам «из-под Москвы, и из Переяславля, и з дорог всяких» по предложению Д. троицкие иноки передавали запасы ржаной и пшеничной муки и кваса, сами же питались овсяным и ячменным хлебом и водой.
Беспокоясь за судьбу и Первого ополчения, и всей страны, в июле 1611 г. Д. на-правил грамоты во мн. города (сохр. экземпляр, посланный в Казань) с призывом, «чтоб всем православным крестианом в соединении стати обще и заодно» и чтобы города скорее оказали помощь «ратными людьми и казною», «чтоб... множество на-роду хрестиянского войска здеся на Москве скудости ради не разнилося». Социальные противоречия привели к внутренним конфликтам в Первом ополчении, убийст-ву П. Ляпунова казаками и начавшемуся разъезду детей боярских из-под Москвы. Осенью 1611 г. войска гетмана Я. Ходкевича с запасами для польск. гарнизона стали приближаться к Москве. 6 окт. Д. снова отправил грамоты во мн. города (сохр. эк-земпляр, посланный в Пермь). Сообщая о появлении на Коломенской дороге войск Ходкевича, Д. и троицкая братия снова призывали оказать помощь Первому ополче-нию «ратными людьми». Троицкая грамота пришла в Н. Новгород в то время, когда перед земской избой выступил К. Минин, и способствовала тому, что нижегородцы приняли решение идти на помощь «Московскому государству».
Д. сыграл серьезную роль в деле объединения сил Первого и Второго ополчений для борьбы с общим врагом. В отношениях между 2 ополчениями разразился серь-езный кризис, вызванный присягой подмосковных полков «псковскому вору» - Лжедмитрию III. 2 марта 1612 г. Троице-Сергиев мон-рь отказался присягнуть но-вому самозванцу, во мн. города и под Москву из обители были посланы грамоты с призывом не прельщаться «на воровские заводы». В результате не только мн. юж. и зап. города отказались присягать Лжедмитрию III, но и один из главных руководите-лей Первого ополчения, кн. Д. Т. Трубецкой, 28 марта прислал в мон-рь своих послов, предлагая мон-рю способствовать соединению сил Первого и Второго ополчений, чтобы «промышляти над польскими и литовскими людьми и над теми враги, которые нынеча завели смуты».
Троицкие иноки во главе с Д. действительно выступили с такой посреднической миссией, обратившись с посланием к властям Второго ополчения. В послании гово-рилось, что дети боярские во главе с Трубецким целовали крест «неволею» и ищут сотрудничества со Вторым ополчением, а города, отказавшиеся присягнуть «вору», также ждут «промыслу и совету». Троицкая братия призывала власти Второго ополчения идти «наспех» к Троице-Сергиеву мон-рю и обещала приложить все усилия, чтобы все защитники страны могли собраться «во едино избранное место на благо-избранный земской совет», где был бы определен законный правитель Русского гос-ва.
Власти Второго ополчения этим советам не последовали, но троицкое послание сняло накопившуюся напряженность, а твердая позиция, занятая мон-рем, способст-вовала тому, что в подмосковном лагере взяли верх силы, способные сотрудничать со Вторым ополчением. Получив от кн. Трубецкого сведения, что ожидается новый приход войск Ходкевича под Москву, троицкая братия во главе с Д. дважды посыла-ла к кн. Д. М. Пожарскому в Ярославль старцев, побуждая его скорее идти с вой-ском под Москву. 28 июня с такой просьбой поехал троицкий келарь Авраамий (Па-лицын). 14 авг. 1612 г. Д. с братией принимал в мон-ре идущее к Москве войско Второго ополчения. Когда настоятель с братией вышел провожать войско в поход, поднялся сильный встречный ветер, что было воспринято как дурное предзнамено-вание; после того как Д. благословил ратников и окропил их св. водой, ветер пере-менился, а с ним переменилось и настроение войска. Об этом много лет спустя рас-сказал Симону (Азарьину) кн. Д. М. Пожарский. (Свидетельство Симона о том, что Д. находился под Москвой во время боев войск Первого и Второго ополчений с армией Ходкевича, Д. И. Скворцов считает недостоверным.)
 | ||
После ухода Ходкевича из-под Москвы Д. продолжал прилагать усилия для соединения Первого и Второго ополчений и создания единого правительства. Иссле-дователи считают его наиболее вероятным автором послания «князьям Дмитриям о любви». Обращаясь к Д. Т. Трубецкому и Д. М. Пожарскому, автор писал: «Сотворите любовь над всею Росиискою землею, призовите в любовь всех любовию своею» - и предлагал князьям прогнать от себя «клеветников и смутителей». В послании говорилось о значении заповеди любви для каждого христианина, о том, как должны вести себя истинные вожди народа, чтобы не вызвать гнев Божий и не погубить страну, о необходимости покаяния. Позиция Д. снискала ему уважение обоих руко-водителей, впосл. они дали Троицкому мон-рю ряд богатых вкладов, кн. Трубецкой был похоронен в обители в 1625 г. При освобождении Москвы 27 нояб. 1612 г. Д. совершил молебен на Лобном месте перед вступившим в столицу рус. войском. 26 апр. 1613 г. преподобный принимал в Троице-Сергиевом мон-ре ехавшего в Москву Михаила Феодоровича, 11 июля участвовал в его венчании на царство.
Перед настоятелем и братией Троицкой обители после окончания Смутного вре-мени возникли важные хозяйственные задачи. Троицкая вотчина за годы Смуты под-верглась сильному разорению, ее население уменьшилось почти наполовину. Из ос-тавшихся на земле крестьян бо?льшую часть составляли «люди пришлые», пользо-вавшиеся льготами на обзаведение хозяйством. По подсчетам М. С. Черкасовой, «старые» крестьяне составляли ко времени окончания Смуты не более 10% населе-ния монастырских владений. По ходатайству троицких властей во главе с Д. и кела-рем Авраамием (Палицыным) в 1613/14 г. был принят «боярский приговор» о возвращении во владения мон-ря крестьян, покинувших свои наделы или вывезенных «насильством» после 1 сент. 1604 г. Когда назначенные для проведения сыска и воз-вращения крестьян дети боярские из Приказа Большого дворца, не выполнив полно-стью задачи, разъехались по домам, то по ходатайству Д. и Авраамия эти обязанности в нач. 1615 г. были возложены на местных воевод и приказных людей. В результате предпринятых усилий в 1614–1615 гг. значительное число бывш. троицких крестьян было возвращено на старые места.
От прежних рус. правителей мон-рь получил много различных прав и привилегий, теперь нужно было добиваться их подтверждения новой царской властью. Эта зада-ча была в целом успешно решена. Ряд грамот, подтверждавших прежние пожалования, были получены троицкими властями уже в 1613 г. Так, 20 мая царь подтвердил традиц. право мон-ря не платить при выдаче ему грамот «подписных и печатных пошлин». 13 авг. было подтверждено право на сбор пошлин при продаже лошадей на «конской площадке» в Москве. 3 нояб. за обителью было подтверждено право не уп-лачивать пошлины за суда, направлявшиеся в Астрахань за рыбой и солью. Особое значение имело подтверждение в авг. общей жалованной грамоты царя Василия от 11 июня 1606 г. на земли Троице-Сергиева мон-ря в 28 уездах - большую часть владений обители. За монастырскими властями было подтверждено право самим со-ирать и передавать в гос. казну налоги с этих земель. Была подтверждена и полнота судебно-адм. власти мон-ря над населением его владений. Тогда же, в авг., была подтверждена грамота царя Феодора Иоанновича 1586 г., предоставлявшая властям мон-ря право иметь в своих владениях губную орг-цию, подчиненную Разбойному приказу.
Первые годы архимандритства Д. ознаменовались появлением в составе троицких владений ряда приписных обителей. Эти перемены были результатом усилий братии мон-рей, рассчитывавших с помощью организационно более сильного мон-ря обес-печить защиту себя и своих владений от «воровских людей». Правительства ополче-ний в 1611–1612 гг. «приписали» к Троице-Сергиеву мон-рю Никольский Чухченем-ский (Чухчеремский) мон-рь и Алатырский во имя Св. Троицы муж. мон-рь. К 1616 г. в состав троицкой вотчины вошли мон-ри Авнежский в честь Св. Троицы, Стефа-нов Махрищский в честь Св. Троицы, Макариева пуст. в предместье Бежецка, в 1616–1617 гг. за ними последовал Стромынский в честь Успения Пресв. Богородицы мон-рь. Троицкие власти стали проводить перепись имущества этих обителей и посылать для управления ими своих старцев. Усилия Д. и братии были направлены на то, что-бы права и привилегии Троице-Сергиева мон-ря были распространены на владения приписных мон-рей. Это было сделано в новой жалованной грамоте 1617 г., к-рая также распространила традиц. права и привилегии и на новые приобретения Троиц-кого мон-ря.
После отмены в 1584 г. тарханных несудимых грамот владения мон-ря должны были платить в гос. казну все основные налоги, но в 1598–1599 гг. царь Борис Феодорович Годунов освободил монастырскую пашню от обложения, а пашня монастыр-ских слуг и крестьян должна была облагаться не по нормам, установленным для цер-ковных земель, а по более льготным нормам, установленным для поместных земель. В первые годы правления царя Михаила Феодоровича эти установления перестали соблюдаться. В дек. 1616 г. Д. и Авраамий (Палицын) подали грамоты Бориса Годунова в Поместный приказ. Царские грамоты 1617 и 1619 гг. признали за мон-рем соответствующие права, но на практике они из-за произвола чиновников не всегда соблюдались.
На первые годы правления Михаила Феодоровича пришлось начало большой ра-боты по приведению в порядок обширного троицкого архива. В 1614 - нач. 1615 г. «всего собора советом» была составлена копийная книга - сборник списков наибо-лее важных полученных мон-рем жалованных грамот и актов дарений. В обширном предисловии к книге его автор (по мнению ряда исследователей, Д.), цитируя прави-ла V и VII Вселенских Соборов и 75-ю гл. Стоглава, доказывал право Церкви получать земельные дарения, чтобы иметь возможность обеспечить вечное поминовение душ вкладчиков. Одновременно в предисловии подчеркивался долг братии непрерывно совершать такое поминовение. 25 марта 1616 г. в мон-ре началось составление «черных книг крепостной казны», содержавших копии текущих поступавших в мон-рь документов.
Постоянное удовлетворение в 1613–1618 гг. разнообразных ходатайств троицких властей говорит о теплых, близких отношениях, установившихся между обителью и молодым царем в эти годы настоятельства Д. В 1616 г. Михаил Феодорович подарил мон-рю золотое кадило, украшенное драгоценными камнями, воздухи и покровы. В нояб. того же года царь пожаловал Троицкой обители «городок Радонеж со всякими угодьи» - единственное земельное пожалование царского дома мон-рю в 1-й пол. XVII в.
О расположении молодого царя к обители говорит и распоряжение в окт. 1615 г. прислать в Москву ученых троицких старцев Антония (Крылова) и Арсения Глухого, также Иоанна Наседку для подготовки к изданию Требника. Однако справщики заявили, что одни не могут взяться за эту работу, и 8 нояб. 1616 г. царь поручил Д. провести исправления Требника в Троице-Сергиевом мон-ре и привлечь к этой работе тех старцев, к-рые «подлинно и достохвально извычны книжному учению и грама-тику и риторию умеют». Д. и старцы должны были не только внести исправления, но и обновить состав книги, чтобы в ней были собраны «многия нужнейшия потребные вещи, без которых вашему священническому чину и всем православным христианом быть нельзя». Работа по правке богослужебных книг к тому времени в мон-ре уже была начата в 1615/16 г. старцем Арсением Глухим были подготовлены 2 рукописи Канонника - одна «повелением и замышлением», другая - «помощию и повелени-ем» Д. (РГБ ОР. Ф. 304. № 281, 283). Производилась не только сверка текста по аналогичным спискам, но и правка служб и канонов, написанных «неискусными творцы грамотичному учению».
Работа по выполнению царского распоряжения об исправлении Требника про-должалась в течение полутора лет. Главными помощниками Д. были старцы Арсений Глухой и Антоний (Крылов), а также Иоанн Наседка. Справщики не знали греч. языка и ограничились сличением находившихся в их распоряжении слав. рукописей. Предпочтение отдавалось чтению более древних списков. В ряде случаев книжники просили архиеп. Арсения Элассонского навести справки в имевшихся у него греч. рукописях. В результате текст Требника был исправлен и существенно расширен по сравнению с изданием 1602 г. Книжники вышли за рамки задания, занявшись прав-кой и др. богослужебных книг - Триоди Цветной, Октоиха, Общей Минеи, месячных Миней.
Наблюдения исследователей показывают, что дело не ограничивалось сличением списков. Троицкие книжники обращали внимание и на содержание текста, перестав-ляя знаки препинания, заменяя одни слова и выражения другими. Справщики стре-мились исправлять смысловые ошибки, а также удалять из текстов отдельные вкравшиеся ошибочные чтения. Многие из предложенных ими поправок вошли затем в московские издания XVII в. По инициативе Д. была проделана систематиче-ская правка заключительных славословий в молитвах. Из конечных славословий молитв, обращенных к Богу Отцу или к Богу Сыну, было изъято обращение к др. Лицам Св. Троицы. Обращение ко всем 3 Ипостасям Троицы помещалось в славосло-виях лишь тех молитв, где «не было особных имен». Поправка, вызвавшая впосл. наиболее резкую реакцию, была сделана в молитве на освящение воды, читавшейся в навечерие Богоявления. Из прошения: «Сам и ныне, Владыко, освяти воду Духом Твоим Святым и огнем» - были удалены слова «и огнем». Справщики основыва-лись на том, что в более ранних Служебниках эти слова отсутствовали, а в рукописях 2-й пол. XVI в. они помещались на полях или над строкой.
Работа была завершена к маю 1618 г. Д. представил исправленные тексты Место-блюстителю Патриаршего престола Ионе (Архангельскому), митр. Сарскому и По-донскому, чтобы проделанная работа получила оценку церковного Собора. К.-л. протокола заседаний Собора, начавшего работу 4 июля 1618 г., не сохранилось, све-дения о нем содержатся в ряде появившихся позднее полемических сочинений. На Соборе против Д. и его помощников выступила группа троицких монахов во главе с такими влиятельными старцами, как уставщик Филарет, головщик Лонгин, ризничий Маркелл. Они обвинили Д. в том, что он «во многих книгах выскребал, и вырезал, и писал во том месте по своему произволу». Их поддержал архим. Чудова в честь Чу-да арх. Михаила в Хонех мон-ря Авраамий. После долгих и упорных споров Д. и его сотрудникам был вынесен обвинительный приговор. Собор осудил их за то, что они «имя Святые Троицы в книгах велели морати и Духа Святого не исповедует, яко огнь есть». Первое из этих обвинений было связано с исправлением конечных славословий. 2-е обвинение имело в виду изъятие справщиками слов «и огнем» в молитве на великом освящении воды. К нач. XVII в. сложился обычай при освящении воды погружать в нее зажженные свечи. Обоснование такой практики видели в словах св. Иоанна Предтечи о Христе: «Той вы крестит Духом Святым и огнем» (Лк 3. 16), к-рые неверно толковались как отождествление Св. Духа с огнем.
Д. и Иоанну Наседке было запрещено служить, старцы Арсений Глухой и Анто-ний (Крылов) были лишены причастия. Настоятель и старцы должны были отправиться в ссылку в разные мон-ри. В течение 4 дней после принятия решения Д. приводили «в ответ на патриарш двор с великим бесчестием и позором», затем в кельи царицы-инокини Марфы в московском в честь Вознесения Господня мон-ре и на подворье митр. Ионы, где святого подвергали побоям. Было принято решение отправить Д. в ссылку в Кириллов Белозерский в честь Успения Пресв. Богородицы мон-рь, но поскольку Москва в тот момент была окружена войсками польск. королевича Владислава, Д. был заключен в Новоспасском московском в честь Преображения Господня мон-ре, где на него была наложена епитимия - тысяча поклонов в день. У преподобного оставались сторонники среди троицкой братии, от них Д. получил «утешительное послание», обнаруженное в бумагах преподобного после его смерти.
Положение Д. улучшилось после приезда в апр. 1619 г. в Москву Иерусалимского патриарха Феофана. Сторонники Д. уведомили патриарха о происшедшем, и, по-видимому, благодаря его вмешательству Д. был освобожден. В июне 1619 г. Д. вместе с митр. Ионой встречал в с. Хорошёве под Москвой возвращавшегося из польск. плена Филарета. Через неделю после возведения Филарета на Патриарший престол был созван Собор для пересмотра дела Д. и его помощников. По свидетельству Иоанна Наседки, на нем Д. в течение 8 ч. отвечал на возводимые против него обвинения.
Сохранилась начальная часть речи Д. на Соборе. В ней преподобный, опровергая аргументы обвинителей, отмечал, что, за исключением приведенных слов св. Иоанна Предтечи из Евангелия от Луки, в остальных Евангелиях и в Апостольских Деяниях говорится о крещении водой и Св. Духом. Отсюда следовал вывод: «Молитвою апостольскою крещаемым подавашеся Дух Святый, но не в огненных видениих». В этой связи Д. указывал на отсутствие слов «и огнем» в молитве, читающейся при освящении воды в чине крещения. Д. также доказывал, что Бог, Творец всего мира, не может отождествляться с одной из стихий - огнем. Сопоставление сохранившейся части речи Д. с написанным после Собора соч. Иоанна Наседки «Изысканное от многих Божественных книг свидетельство о прикладе огня» показало, что речь Д. явилась одним из главных источников начальной части этого труда (возможно, и остальной текст сочинения Иоанна Наседки основан на речи преподобного).
Работа Собора завершилась полным оправданием Д. и его помощников. Арсений Глухой и Антоний (Крылов) стали справщиками Московского Печатного двора, а Иоанн Наседка - священником придворного Благовещенского собора. Д. вернулся в Троице-Сергиев мон-рь и управлял им до кончины. Когда вскоре после решений Собора обитель посетил патриарх Феофан, он, по свидетельству Иоанна Наседки, снял клобук и, преклонившись им к раке прп. Сергия, возложил клобук на голову Д.- «да будеши первый старейшинства над иноки многими по нашему благословению» (Жи-тие. С. 460) (в описях Троице-Сергиевой лавры клобук Иерусалимского патриарха не упом.).
Начало 2-го периода управления Д. Троице-Сергиевым мон-рем ознаменовалось рядом важных работ, цель к-рых состояла в том, чтобы дать троицким властям материал об истинном состоянии владений мон-ря. В 1621 г. группа соборных старцев во главе с Макарием (Куровским) сделала опись жалованных грамот и поземельных ак-тов, хранившихся в монастырской казне. В 1623 г. были составлены т. н. сыскные книги, в к-рых свидетельства документов о монастырских владениях были дополнены записями опросов населения на местах троицкими слугами. Были продолжены и внутривотчинные описания троицких владений, от к-рых сохранилась лишь не-большая часть.
За время 2-го настоятельства Д. земельные владения Троицкого мон-ря незначи-тельно увеличились за счет приписки к нему 2 небольших обителей: Антониевой Покровской пуст. в Переяславском у. (ранее состоявшей во владениях митрополичь-ей кафедры) в 1627–1628 гг. и Чердынского во имя ап. Иоанна Богослова муж. мон-ря в Поморье в 1632 г. Начиная со 2-го десятилетия XVII в. землевладение мон-ря стало заметно расти за счет вкладов как знати и представителей верхушки приказной бюрократии, так и мелких и средних провинциальных детей боярских. Одной из причин такого расширения троицкой вотчины были, как свидетельствует Симон (Азарьин), особые старания Д. по организации постоянного заздравного и заупокой-ного поминовения вкладчиков (на литургии, служением панихид, молебнов), препо-добный «не хотел ни единаго гроба» вкладчиков «поминути» (пропустить) (эти рас-поряжения настоятеля, увеличивавшие время богослужения, вызывали недовольство части братии). К 20-м гг. XVII в. исследователи относят появление протографа сохранившихся троицких вкладных книг 1639 и 1673 гг.
Изучение отложившихся в троицком архиве актов, внутривотчинных и гос. опи-саний троицких земель позволило выяснить 2 важные особенности той хозяйствен-ной политики, к-рую проводили во владениях мон-ря троицкие власти во главе с Д. К посл. десятилетиям XVI в. в троицкой вотчине существовала повсеместно значи-тельная барская запашка. В 20-х гг. XVII в. размер запашки намного уменьшился, все больше крестьян переводилось на денежный или продуктовый оброк. Для восстановления хозяйственной жизни в запустевших владениях широко практиковалась их отдача в пожизненное держание светским землевладельцам, что содействовало укре-плению связей мон-ря с обширным кругом его соседей.
Проблемы для властей Троице-Сергиева мон-ря создавали злоупотребления мона-стырских светских слуг при выводе беглых троицких крестьян из владений бояр и детей боярских. По свидетельству Симона (Азарьина), мн. монастырские слуги, от-бирая под разными предлогами крестьян в чужих владениях, отвозили их вовсе не в мон-рь, а во владения своих родственников. Когда по жалобам обиженных возбуждались судебные дела, вывезенных холопов и крестьян прятали в др. местах. В результате светские слуги Троицкого мон-ря своими действиями «до конца обитель сию в последнее поношение введоша и в ненависть от всего народа Российского государства, от вельмож и от простых». Подтверждение высказываниям Симона дают многочисленные судебные дела, возбуждавшиеся светскими землевладельцами против Троице-Сергиева мон-ря. Такие действия троицких слуг вызывали глубокое возмущение Д., но он не мог положить им конец, поскольку слуги игнорировали его распоряжения, опираясь на помощь «некоторых злохитрых пособников». Они, по свидетельству Симона (Азарьина), «наседающе на него, хотяху и власти лишити».
Светские монастырские слуги нашли поддержку и покровительство у не назван-ного в Житии по имени эконома Троицкого мон-ря. По мнению Скворцова, это был влиятельный старец Александр (Булатников), троицкий келарь в 1622–1641 гг. Келарь, так же как и монастырские слуги, хотел поживиться за счет мон-ря, попытавшись обменять пустошь, принадлежавшую его родственнику, на якобы запустевшее, а в действительности находившееся в хорошем состоянии одно из владений обители. Близкие отношения с царской семьей (Александр являлся восприемником царских детей) позволили келарю добиться одобрения сделки царем и патриархом, но Д. воспротивился ее осуществлению. Тогда Александр обвинил Д. в том, что тот не выполняет царских повелений. Архимандрит был вызван в Москву, где «в скаредное место и темное ввержен бысть и ту три дня в смраде пребысть». Ему удалось оправдаться, но келарь подал новый донос, обвиняя Д. в желании стать патриархом. Дело дошло до того, что, когда на монастырском соборе настоятель не согласился с мне-нием келаря, тот ударил Д. и запер в келье. Д. был освобожден по приказу посетившего мон-рь царя. Преподобный не настаивал на наказании келаря и даже просил простить его, чем снискал расположение монарха. Последующие доносы на Д. не имели успеха.
В нач. 20-х гг. и для троицкой братии, и для Д. важным делом было добиться под-тверждения прав и привилегий мон-ря во время предпринятого гос. властью пересмотра жалованных грамот. Цель эта в основном была достигнута. По жалованным грамотам, полученным мон-рем 17 окт. 1624 и 11 апр. 1625 гг., мон-рь сохранил и полноту судебно-адм. власти над населением своих владений, и право самому собирать налоги и вносить их в гос. казну.
 | ||
В одном отношении статус мон-ря серьезно изменился. Если ранее, как и др. мон-ри, Троице-Сергиев мон-рь был подчинен Приказу Большого дворца, то по грамотам 1624 и 1625 гг. верховным судьей для троицкой братии стал патриарх «или кому он, великий государь, повелит их судити». После этого судебные дела, касавшиеся мон-ря, стали рассматривать либо лично Филарет, либо судьи Патриаршего разряда. При участии патриарха регулировались и нек-рые важные вопросы внутренней жизни Троице-Сергиевой обители. Так, когда в Успенском Стромынском мон-ре крестьяне начали держать корчмы, а монахи - пьянствовать, при этом и те и другие не желали подчиняться троицким властям, патриарх не только положил конец конфликту, но и выдал в 1625 г. грамоту с перечнем мер, к-рые троицкие власти должны осуществить в приписном мон-ре. Установление прямой судебной подведомственности мон-ря патриарху, расположенному к Д., несомненно, способствовало тому, что имевшие место в мон-ре в нач. 20-х гг. XVII в. конфликты не получили продолжения и положение настоятеля упрочилось. С этого времени в мон-рь стали царь и патриарх стали делать вклады: от серебряного потира и золотых цат с драгоценными камнями для иконы Св. Троицы, подаренных в 1626 г., до печатного напрестольного Евангелия с золотым окладом, украшенным драгоценными камнями, поступившего в обитель в 1632 г.; в апр. 1625 г. первосвятитель пожертвовал в обитель 100 р.
Оживление хозяйственной жизни после окончания Смуты дало возможность Д. возобновить в 20-х гг. работы по благоустройству и украшению мон-ря. В 1621 г. к старой трапезной палате была пристроена каменная ц. во имя прп. Михаила Малеина - небесного покровителя царя Михаила Феодоровича. В 1622 г. была разобрана, затем вновь выстроена церковь над гробом прп. Никона, освященная 21 сент. 1624 г., в следующем году обложены серебром иконы в этой церкви. Украшался и один из главных храмов мон-ря - Успенский собор: в 1621 г. были «подписаны киоты верхние над алтарем», в 1625 г. обложены серебром и позолочены иконы Спасителя, праздников и пророков. В троицких придельных церквах медные и оловянные бого-служебные сосуды были заменены серебряными, для изготовления новой утвари Д. «серебра своего прикладывал». Возводились в мон-ре и хозяйственные постройки: в 1624 г. были построены кирпичные палаты «у келарской» и кирпичные кузницы, в 1628–1629 гг. после пожара восстанавливались братские кельи. По свидетельству Симона (Азарьина), мн. работы делались потому, что Д. «кормил» в мон-ре мастеров и платил им «от своих келейных достатков». На обустройство обители расходовалась и милостыня, полученная от «боголюбцев». За пределами обители Д. также строил новые храмы и обновлял старые, снабжая их утварью.
Настоятельство Д. принесло перемены в порядке богослужений в Троице-Сергиевом мон-ре. Д. установил обычай на мн. праздники служить всенощные бдения с литиями, совершать за каждой воскресной всенощной благословение хлебов. На воскресных литиях он ввел пение богородичных стихир Павла Аморрейского и догматиков (вероятно, богородичнов Октоиха для малой вечерни) 8 гласов. Такое предписание читалось уже в Каноннике 1615/16 г. (РГБ. Ф. 304. № 281). В рукописи Симона (Азарьина) соответствующие тексты и предписание петь их на воскресных службах помещены вместе с Житием Д. По свидетельству свящ. Иоанна Наседки, Д. также установил обычай читать в Великий пост и на мн. праздники, особенно в день Св. Троицы, Слова свт. Григория Богослова, Беседы на Евангелия и Апостол свт. Иоанна Златоуста. Точность этого свидетельства подтверждает запись на рукописи Слов свт. Григория Богослова, принадлежавшей мон-рю: «Чтут по ней на соборе, и у Троицы, и в трапезе» (Там же. № 136). Труды святителей Григория Богослова и Ио-анна Златоуста, прп. Иоанна Дамаскина, сщмч. Дионисия Ареопагита были постоян-ным келейным чтением Д. Сохранился принадлежавший преподобному список Слов свт. Григория Богослова, (Там же. № 710). Слова свт. Григория Богослова и Беседы на Евангелия свт. Иоанна Златоуста по приказу Д. переписывали и рассылали в различные мон-ри и храмы и даже в книгохранилище «великия первыя церкви» - мос-ковский Успенский собор.
По свидетельству Симона (Азарьина), Д. обратил внимание на хранившиеся в мон-ре полузабытые к тому времени рукописи переводов и сочинений прп. Максима Грека. Благодаря хлопотам Д. была приведена в порядок могила прп. Максима у Свято-Духовской ц. Уже к кон. 20-х гг. XVII в. имя ученого грека было окружено в мон-ре особым пиететом: на него ссылались троицкие старцы во время споров о правке книг. В 20-х гг. XVII в. была предпринята серьезная работа по собиранию и переписке произведений прп. Максима, тогда было составлено Троицкое собрание его сочинений (Там же. № 200).
Др. крупное начинание, предпринятое при участии Д., связано с именем его учителя Германа (Тулупова). Приняв постриг в Троице-Сергиевом мон-ре ок. 1626/27 г., он «повелением и благословением» Д. в 1627–1632 гг. составил Четьи-Минеи, в к-рых большее место, чем обычно, заняли Жития рус. святых. Кроме того, Герман со-ставил сборник житий рус. святых (Там же. № 694) и сборник, содержавший Жития преподобным Сергию и Никону Радонежским и службы им (Там же. № 699). В последней рукописи текст был выправлен Д.
Деятельность Д. во многом имела целью поднять неудовлетворительный уровень образованности насельников, часть к-рых во главе с уставщиком Филаретом и головщиком Лонгином Коровой, чей авторитет затронула правка Д. и его сотрудника-ми Устава, изданного в 1610 г. при участии Лонгина, сопротивлялась нововведениям и продолжала называть преподобного еретиком. Нападки на Д. во многом были следствием того, что преподобный неоднократно при личной беседе обличал тще-славие Лонгина и ложные воззрения Филарета (по свидетельству Иоанна Наседки, Филарет учил, что Бог Сын род. не «прежде век», а после Благовещения, кроме того, Филарет Бога «глаголаше... человекообразна суща и вся уды имеюща по человечу подобию»). Обосновывая свою правоту в части изменений в богослужении, Д. ссылался на древние уставы, в т. ч. «харатейные». Благодаря терпению и такту Д., стремившегося не обострять разногласий, конфликты со временем прекратились.
Симон (Азарьин) и Иоанн Наседка описывают Д. как человека, обладавшего совершенными смирением и незлобием, терпеливого к оскорблявшим его и радовавшегося страданиям. Д. был убежден в важности иноческого подвига и добивался того, чтобы троицкие иноки были на высоте своего служения, провинившихся наказывал незамедлительно, но бывал скор к прощению. Святой был кроток по отношению к братии, действовал не приказом, но убеждением, о проступках с виновными бесе-довал наедине. Д. служил примером для братии в молитве церковной, первым являлся в храм к богослужению, побуждал братию молиться, имел дар слезной молитвы. В келье, где Д. жил вместе с неск. учениками, помимо правила святой упражнялся в псалмопении, клал многочисленные поклоны, ежедневно читал каноны праздникам.
Отличаясь телесной крепостью, Д. много времени посвящал делам, связанным с управлением мон-рем и его владениями, вместе с братией участвовал в полевых работах. В отношении как к монахам, так и к слугам мон-ря он выступал как добрый отец, внимательный к их нуждам. По его настоянию братский собор разрешил монастырским работникам иметь семьи и строить дворы. Д. поддержал И. Неронова (впосл. член ревнителей благочестия кружка, один из учителей старообрядчества), к-рый, будучи чтецом в с. Никольском близ Юрьева-Польского, вступил в конфликт с местными священниками, обвиняя их в «развратном житии». После жалобы по-следних патриарху Филарету Неронов был вынужден бежать и нашел приют у Д., к-рый поселил его в своей келье, затем добился у патриарха прощения Неронова. При поддержке Д. Неронов стал священником.
Известны вклады, сделанные преподобным в разные мон-ри. Возможно, в связи с пострижением Д. («поп Давид») дал в Старицкий Успенский мон-рь между 1589 и 1598 гг., при архим. Трифоне, «ризы, стихарь, потрахиль и поруча, да книг трие Трефолоя... да два Октаи на осмь гласов, да Устав, да Соборник». Собственноручная запись Д. об этом (частично утраченная) сохранилась на одном из вложенных Октоихов (Бухарест. БАН Румынии. Слав. 344), возможно переписанном вкладчиком (Panaitescu P. P. Catalogul manuscriselor slavo-române þi slave din Biblioteca Academici Române. Bu-cureþti, 2003. Vol. 2. P. 121–122); вещи из этого вклада упоминаются в «Описных книгах Старицкого мон-ря» 1607 г. Будучи настоятелем Старицкого мон-ря, преподобный заказал для иконы Божией Матери в Успенском соборе украшенные жемчугом и драгоценными камнями «поднизи». Живя в Троице-Сергиевой обители, Д. продолжал делать вклады в обитель, где он принял постриг: в этот период от него поступили иконы Успения Пресв. Богородицы и Св. Троицы, серебряные сосуды и кадило, серебряный напрестольный крест, Евангелие и Пролог (РГБ. Рогож. № 462, XVI в.).
В Нилову пуст. преподобный вместе с Ростовским митр. Варлаамом пожертвовал 20 икон, позднее часы с боем. В Калязин мон-рь Д. и Авраамий (Палицын) пожертвовали покровы на гроб прп. Макария. Сохранились рукописи (Минея служебная за апр., Пролог, сентябрьская половина) - вклады Д. по себе и родителям в храмы Служней слободы. В одной из книг имеется вкладная запись - автограф Д. Вклады преподобного в Троице-Сергиев мон-рь не были особенно значительными: в 1617 г. за 20 р. была куплена чаша для водосвятия, тогда же он дал деньги (47 р.) и железо на устройство кровли Успенского собора. После кончины преподобного мон-рю отошло имущество и деньги из его кельи, оцененные в очень большую сумму - 510 р.
До последнего дня, несмотря на болезнь, Д. совершал богослужение. Перед кончиной он просил постричь его в великую схиму и во время совершения обряда скончался. Точная дата смерти преподобного в Житии не указана. Останки Д. по повелению патриарха Филарета были привезены в Москву в Богоявленскую ц. за Ветошным рядом (см. Московский в честь Богоявления муж. мон-рь), где первосвятитель совершил отпевание. 10 мая Д. был похоронен в Троице-Сергиевом мон-ре у юго-зап. притвора Троицкого собора. В наст. время мощи святого почивают под спудом в Серапионовой палатке у Троицкого собора.
Почитание. Почитание Д. в Троице-Сергиевом мон-ре и в Тверском крае устано-вилось сразу после его кончины. Симон (Азарьин) присоединил к Житию рассказы о 13 чудесах преподобного, из к-рых последнее произошло в 1652 г. Первые известные чудеса по молитвам к Д., датируемые 1633–1634 гг., совершались в кругу его учени-ков и последователей. Симон записал рассказы о явлениях Д. его ученику, бывш. архимандриту владимирского в честь Рождества Пресв. Богородицы мон-ря Перфилию, свящ. Служней слободы Феодору, мон. Вере из хотьковского в честь Покрова Пресв. Богородицы мон-ря - Д. благословлял их или утешал.
Одним из ранних центров почитания Д. стал Кожеезерский в честь Богоявления муж. мон-рь. Здесь старец Боголеп (Львов) записал рассказ о явлении прп. Никодиму Кожеезерскому митр. св. Алексия вместе с Д. и послал запись патриарху Иосифу. В 1648 г. рассказ о явлении Д. прп. Никодиму слышал П. Головин, бывший тогда вое-водой на р. Лене. В том же году в Троице-Сергиев мон-рь для поклонения гробу Д. приехали донские казаки, поведавшие о том, что преподобный «велику» им «помощь подавал явлением на море на супротивныя». В 1650 г. со слов инока Антония (Ярин-ского) был записан рассказ донских казаков о явлении их «старейшине» Богоматери с апостолами Петром и Иоанном и с преподобными Сергием, Никоном и Д. и о предсказании поражения от турок.
В кон. XIX в. при Владимирской ц. в Ржеве был устроен придел во имя Д. В Ус-пенском соборе Старицкого мон-ря посвященный преподобному придел был освя-щен 28 сент. 1897 г., в обители хранилась митра Д.
Симон (Азарьин) включил имя Д. в составленный им ок. сер. 50-х гг. XVII в. Ме-сяцеслов под 10 мая (РГБ. Ф. 173. № 201. Л. 316 об.). С таким же днем памяти Д. на-зван в «Описании о российских святых» (кон. XVII–XVIII в.). Московский митр. св. Филарет (Дроздов) установил «править молебен» по Д. в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры 5 мая, но еще в кон. XIX в. память Д. в лавре совершалась 12 мая. Канонизация Д. подтверждена включением его имени в Собор Тверских свя-тых (празд. установлено в 1979), Собор Радонежских святых (празд. установлено в 1981), Собор Московских святых (празд. установлено в 2001).
Ист.: [Симон (Азарьин)]. Канон преподобному отцу нашему Дионисию, архиман-дриту Троице-Сергиевы лавры, Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением Жи-тия его. М., 18556; он же. Книга о новоявленных чудесах прп. Сергия Радонежского // Клосс Б. М. Избр. труды. М., 1998. Т. 1. С. 460, 470–492; СГГД. Т. 2. № 275; ААЭ. Т. 2. № 190, 202, 219; Т. 3. № 1, 11, 66; АИ. Т. 3. № 2, 58, 69; ДАИ. 1846. Т. 2. № 35, 37, 49; Леонид (Кавелин), архим. Надписи Троицкой Сергиевой лавры. СПб., 1881. С. 00-00; Описные книги Старицкого Успенского мон-ря. 7115/1607. Старица, 1912. С. 2, 13, 19, 38; Сборник грамот Коллегии экономии. Пг., 1922. Т. 1: Грамоты Двинско-го у. № 316, 340, 491, 529а, 530; Сказание Авраамия (Палицына) / Подгот. текста и коммент.: О. А. Державина, Е. В. Колосова / Ред.: Л. В. Черепнин. М.; Л., 1955. С. ???; ВКТСМ. С. 00-00; Ткаченко В. А. Жалованная данная грамота царя Михаила Федоровича «в дом Пресв. Живоначальной Троицы и преп. чудотворцу Сергию» на городок Радонеж от 5 нояб. 1616 г. // Сообщения Сергиево-Посадского музея-заповедника. М., 1995. С. 38–48; Прп. Дионисий Радонежский: Житие; Повествова-ние о чудесах прп. Дионисия. Троицкая Сергиева лавра, 2005 (в рус. переводе); Жи-тие архимандрита Троице-Сергиева мон-ря Дионисия / Подгот. текста, пер. и ком-мент.: О. А. Белоброва // БЛДР. 2006. Т. 14. С. 356–462.
Лит.: Филарет (Гумилевский). РСв. Май. С. 81–95; Казанский П. С. Исправление церк.-богослужебных книг при патр. Филарете. М., 1848; СИСПРЦ. СПб., 1862. С. 84–85; Смирнов А. П. Святейший патр. Филарет Никитич Московский и всея России. М., 1874. 2 ч. С. 00-00; Кедров С. И. Авраамий Палицын // ЧОИДР. 1880. Кн. 4. С. 71–76; Барсуков. Источники агиографии. Стб. 168–169; Скворцов Д. И. Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева мон-ря (ныне лавры). Тверь, 1890; он же. Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева мон-ря: (Очерк жизни и деятель-ности его, преимущественно до назначения в троицкие архимандриты). Тверь, 1890; Леонид (Кавелин). Св. Русь. С. 146–147; Димитрий (Самбикин). Месяцеслов. Май. С. 18–23; Никольский Н. К. К истории наказаний писателей в XVII в. // Библиогр. ле-топись. 1914. Т. 1. С. 126–128; Гречев Б. Рус. Церковь и Рус. гос-во в смутные годы: Патр. Ермоген и архим. Дионисий. М., 1918; Федукова (Уварова) Н. М. Редакции «Жития Дионисия»: (К пробл. изуч. лит. истории сочинений Симона (Азарьина)) // Лит-ра Др. Руси: Сб. тр. М., 1975. Вып. 1. С. 71–89; Белоброва О. А. Автограф Дио-нисия Зобниновского // ТОДРЛ. Т. 17. С. 388–390; она же. Дионисий Зобниновский // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. С. 274–276 [Библиогр.]; она же. Из реального комментария к Житию Дионисия, архим. Троице-Сергиева мон-ря // Троице-Сергиева лавра в ис-тории, культуре и духовной жизни России: Мат-лы междунар. конф. 29 сент.- 1 окт. 1998 г. М., 2000. С. 132–146; она же. Об источниках Жития Дионисия, архим. Трои-це-Сергиева мон-ря // ТОДРЛ. 2001. Т. 52. С. 667–674; Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России кон. XVI–XVII вв. (по архиву ТСЛ). М., 2004. С. 00-00; Кириченко Л. А. Актовый материал Троице-Сергиева мон-ря 1584–1641 гг. как источник по истории землевладения и хозяйства. М., 2006 (по указ.).
Б. Н. Флоря
Иконография.
Лит.: Белоброва О. А. Портретные изображения Дионисия Зобниновского // Сообщения Загорского гос. ист.-худ. Музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 175–180; То же // Белоброва О. А. Очерки рус. художественной культуры XVI–XX вв. Сб. ст. М., 2005. С. 86-92.
(Зобниновский (Зобнинов, Зобнинский) Давид Федорович; ок. 1570, г. Ржев - 1633, ок. 5.05, Троице-Сергиев мон-рь), прп. (пам. 12 мая, в неделю после 29 июня - в Соборе Тверских святых, 6 июля - в Соборе Радонежских святых, в неделю перед 26 авг.- в Соборе Московских святых), Радонежский.
Главным источником сведений о жизни Д. является Житие, написанное его учеником Симоном (Азарьиным) по просьбе Боголепа (Львова), насельника Кожеезерского в честь Богоявления мужского монастыря . Симон принял в 1624 г. постриг в Троице-Сергиевом мон-ре , после того как он был чудесным образом исцелен по молитве Д., и неск. лет жил в келье преподобного. К работе над Житием Симон приступил во 2-й пол. 40-х гг. XVII в. При написании текста он опрашивал насельников мон-ря, др. людей. Неудовлетворенный своей работой, он обратился к одному из ближайших сотрудников Д.- свящ. Иоанну Наседке с просьбой записать воспоминания о Д. и полученную обширную записку присоединил к Житию. Симон пишет о создании основной части Жития к 1648 г. (по мнению О. А. Белобровой, Житие было завершено между 1648 и 1654). Житие сохранилось в автографе Симона - ГИМ. Син. № 416 (Белоброва и Б. М. Клосс не считают эту ркп. целиком написанной Симоном, по мнению исследователей, книжник лишь исправил ее).В данном списке вместе с Житием и запиской Иоанна Наседки Симон поместил созданные им тропарь и канон преподобному, а также комплекс материалов, связанных с судом над Д. в связи с предпринятой преподобным книжной справой. В XIX в. Житие Д. публиковалось по др. спискам, не полностью. В изданиях Жития 1808-1834 гг. помещен канон, отличный от канона Симона (Азарьина); по мнению архим. Леонида (Кавелина) , 2-й канон был составлен митр. Платоном (Левшиным) .
Д. род. в посадской семье. Когда ему было 5-6 лет, родители переехали из Ржева в Старицу, где отец стал старостой Ямской слободы. Мальчика обучали грамоте местные священники Гурий Ржевитин и Георгий Тулупов (в иночестве Герман). По настоянию родителей Д. женился, затем стал священником при ц. Богоявления в одном из владений старицкого в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря - с. Ильинском Раменской вол. Старицкого у. После смерти жены Вассы и детей ок. 1601-1602 гг. свящ. Давид принял постриг в Старицком мон-ре с именем Дионисий. Здесь он вскоре стал казначеем, затем, по-видимому в сер. 1605 или в авг. 1607 г., архимандритом. Успенский старицкий мон-рь, пользовавшийся особым покровительством царя Иоанна IV Васильевича и своего постриженика патриарха св. Иова , был в нач. XVII в. большой богатой обителью, в к-рой жили 73 монаха. В мон-ре имелось собрание рукописей с сочинениями преподобных Ефрема Сирина и Симеона Нового Богослова, свт. Григория Богослова; в годы настоятельства Д. б-ка мон-ря увеличилась за счет собрания книг свт. Иова. Вопреки инструкциям Лжедмитрия I Д. оказал теплый прием сосланному в Старицкий мон-рь низложенному патриарху Иову. Исследователи предполагают, что Д. сопровождал святителя во время поездки в февр. 1607 г. в Москву, когда москвичи просили прощения у первосвятителя за его изгнание; тогда же произошло знакомство Д. с патриархом сщмч. Ермогеном . Трудами Д. на могиле свт. Иова было поставлено каменное надгробие.
В Старицком мон-ре Д. пробыл настоятелем более 2 лет. Во время осады Москвы войсками Лжедмитрия II Д. находился в городе, где, по свидетельству Симона (Азарьина), стал одним из ближайших помощников патриарха Ермогена. Вместе с первосвятителем Д. поддерживал царя Василия Иоанновича Шуйского, проявляя решительность и стойкость в самых трудных обстоятельствах. В февр. 1610 г. Д. был поставлен архимандритом Троице-Сергиева мон-ря. В сент. того же года патриарх Ермоген дал значительный (100 р.) вклад в Троицкую обитель.
Как настоятель Д. оказался перед лицом очень трудных задач. В монастыре, только что пережившем многомесячную осаду польско-литов. войск, а также в его округе находилось большое количество больных и раненых людей, умиравших от голода и болезней. По свидетельству свящ. с. Клементьева Иоанна Наседки, Д., несмотря на сопротивление части братии во главе с келарем Авраамием (Палицыным) , добился того, что средства монастырской казны были использованы для поддержки этих людей. Для призрения больных и раненых были построены дома в Служней слободе и в Клементьеве. Специальные приставы собирали и привозили туда больных и нуждавшихся, давали им пищу и одежду. Мон-рь оплачивал услуги людей, к-рые готовили для них пищу и стирали одежду, были найдены врачи. Священники причащали умирающих и совершали погребение. Ближайшими помощниками Д. в этих заботах были его ученик прп. Дорофей , распределявший помощь, и Иоанн Наседка.
Когда в кон. зимы 1611 г. началось восстание против захвативших Москву польско-литов. интервентов, Д. посылал свои грамоты в «смутные города», призывая к объединению для борьбы с врагом. В этих несохранившихся посланиях, по свидетельству Иоанна Наседки, Д. приводил примеры того, как Сам Бог «помощник был бедным, и отчаянным, и худым, и не могущим стояти против супостатом». Когда 19 марта 1611 г. в Троице-Сергиевом мон-ре узнали о восстании в Москве, для усиления собиравшихся под Москвой войск Первого ополчения были посланы 50 монастырских слуг и 200 стрельцов. Приходившим в мон-рь раненым ратникам «из-под Москвы, и из Переяславля, и з дорог всяких» по предложению Д. троицкие иноки передавали запасы ржаной и пшеничной муки и кваса, сами же питались овсяным и ячменным хлебом и водой.

"Архим. Дионисий диктует инокам патриотическую грамоту". Литография по рис. В. М. Васнецова. 1911 г. (СПГИАХМЗ)
"Архим. Дионисий диктует инокам патриотическую грамоту". Литография по рис. В. М. Васнецова. 1911 г. (СПГИАХМЗ)
Беспокоясь за судьбу и Первого ополчения, и всей страны, в июле 1611 г. Д. направил грамоты во мн. города (сохр. экземпляр, посланный в Казань) с призывом, «чтоб всем православным крестианом в соединении стати обще и заодно» и чтобы города скорее оказали помощь «ратными людьми и казною», «чтоб... множество народу хрестиянского войска здеся на Москве скудости ради не разнилося». Социальные противоречия привели к внутренним конфликтам в Первом ополчении, убийству П. Ляпунова казаками и начавшемуся разъезду детей боярских из-под Москвы. Осенью 1611 г. войска гетмана Я. Ходкевича с запасами для польск. гарнизона стали приближаться к Москве. 6 окт. Д. снова отправил грамоты во мн. города (сохр. экземпляр, посланный в Пермь). Сообщая о появлении на Коломенской дороге войск Ходкевича, Д. и троицкая братия снова призывали оказать помощь Первому ополчению «ратными людьми». Троицкая грамота пришла в Н. Новгород в то время, когда перед земской избой выступил К. Минин , и способствовала тому, что нижегородцы приняли решение идти на помощь «Московскому государству».
Д. сыграл серьезную роль в деле объединения сил Первого и Второго ополчений для борьбы с общим врагом. Конфликт между ополчениями был вызван присягой подмосковных полков «псковскому вору» - Лжедмитрию III . 2 марта 1612 г. Троице-Сергиев мон-рь отказался присягнуть новому самозванцу, во мн. города и под Москву из обители были посланы грамоты с призывом не прельщаться «на воровские заводы». В результате не только мн. юж. и зап. города отказались присягать Лжедмитрию III, но и один из главных руководителей Первого ополчения, кн. Д. Т. Трубецкой, 28 марта прислал в мон-рь своих послов, предлагая мон-рю способствовать соединению сил Первого и Второго ополчений, чтобы «промышляти над польскими и литовскими людьми и над теми враги, которые нынеча завели смуты».
Троицкие иноки во главе с Д. действительно выступили с такой посреднической миссией, обратившись с посланием к властям Второго ополчения. В послании говорилось, что дети боярские во главе с кн. Трубецким целовали крест «неволею» и ищут сотрудничества со Вторым ополчением, а города, отказавшиеся присягнуть «вору», также ждут «промыслу и совету». Троицкая братия призывала власти Второго ополчения идти «наспех» к Троице-Сергиеву мон-рю и обещала приложить все усилия, чтобы защитники страны могли собраться «во едино избранное место на благоизбранный земской совет», где был бы определен законный правитель Русского гос-ва.

Власти Второго ополчения этим советам не последовали, но троицкое послание сняло накопившуюся напряженность, а твердая позиция, занятая мон-рем, способствовала тому, что в подмосковном лагере взяли верх силы, к-рые могли сотрудничать со Вторым ополчением. Получив от кн. Трубецкого сведения, что ожидается новый приход войск Ходкевича под Москву, троицкая братия во главе с Д. дважды посылала к кн. Д. М. Пожарскому в Ярославль старцев, побуждая его скорее идти с войском под Москву. 28 июня с такой просьбой поехал троицкий келарь Авраамий (Палицын). 14 авг. 1612 г. Д. с братией принимал в монастыре идущее к Москве войско Второго ополчения. Когда настоятель с братией вышел провожать войско в поход, поднялся сильный встречный ветер, что было воспринято как дурное предзнаменование; после того как Д. благословил ратников и окропил их св. водой, ветер переменился, а с ним переменилось и настроение войска. Об этом много лет спустя рассказал Симону (Азарьину) кн. Пожарский. (Свидетельство Симона о том, что Д. находился под Москвой во время боев Первого и Второго ополчений с армией Ходкевича, Д. И. Скворцов считает недостоверным.)
После ухода Ходкевича из-под Москвы Д. продолжал прилагать усилия для соединения Первого и Второго ополчений и создания единого правительства. Исследователи считают его наиболее вероятным автором послания «князьям Дмитриям о любви». Обращаясь к князьям Трубецкому и Пожарскому, автор писал: «Сотворите любовь над всею Росиискою землею, призовите в любовь всех любовию своею» - и предлагал военачальникам прогнать от себя «клеветников и смутителей». В послании говорилось о значении заповеди любви для каждого христианина, о том, как должны вести себя истинные вожди народа, чтобы не вызвать гнев Божий и не погубить страну, о необходимости покаяния. Позиция Д. снискала ему уважение обоих руководителей, впосл. они дали Троицкому мон-рю ряд богатых вкладов, кн. Трубецкой был похоронен в обители в 1625 г. При освобождении Москвы 27 нояб. 1612 г. Д. совершил молебен на Лобном месте перед вступившим в столицу рус. войском. 26 апр. 1613 г. преподобный принимал в Троице-Сергиевом мон-ре ехавшего в Москву Михаила Феодоровича , 11 июля участвовал в его венчании на царство.
Перед настоятелем и братией Троицкой обители после окончания Смутного времени возникли важные хозяйственные задачи. Троицкая вотчина за годы Смуты подверглась сильному разорению, ее население уменьшилось почти наполовину. Оставшиеся на земле крестьяне были по большей части «людьми пришлыми», пользовавшимися льготами на обзаведение хозяйством. По подсчетам М. С. Черкасовой, «старые» крестьяне составляли к времени окончания Смуты не более 10% населения монастырских владений. По ходатайству троицких властей во главе с Д. и келарем Авраамием (Палицыным) в 1613/14 г. был принят «боярский приговор» о возвращении во владения мон-ря крестьян, покинувших свои наделы или вывезенных «насильством» после 1 сент. 1604 г. Когда назначенные для проведения сыска и возвращения крестьян дети боярские из приказа Большого дворца, не выполнив полностью задачи, разъехались по домам, то по ходатайству Д. и Авраамия эти обязанности в нач. 1615 г. были возложены на местных воевод и приказных людей. В результате предпринятых усилий в 1614-1615 гг. значительное число бывш. троицких крестьян было возвращено на старые места.
От прежних рус. правителей монастырь получил много различных прав и привилегий, теперь нужно было добиваться их подтверждения новой царской властью. Эта задача была в целом успешно решена. Ряд грамот, подтверждавших прежние пожалования, был получен троицкими властями уже в 1613 г. Так, 20 мая царь подтвердил традиц. право мон-ря не платить при выдаче ему грамот «подписных и печатных пошлин». 13 авг. было подтверждено право на сбор пошлин при продаже лошадей на «конской площадке» в Москве. 3 нояб. за обителью было подтверждено право не уплачивать пошлины за суда, направлявшиеся в Астрахань за рыбой и солью. Особое значение имело подтверждение в авг. общей жалованной грамоты царя Василия от 11 июня 1606 г. на земли Троице-Сергиева мон-ря в 28 уездах - большую часть владений обители. За монастырскими властями было подтверждено право самим собирать и передавать в гос. казну налоги с этих земель. Была подтверждена и полнота судебно-административной власти мон-ря над населением его владений. Тогда же, в авг., была подтверждена грамота царя Феодора Иоанновича 1586 г., предоставлявшая властям мон-ря право иметь в своих владениях губную орг-цию, подчиненную Разбойному приказу.
Первые годы архимандритства Д. ознаменовались появлением в составе троицких владений ряда приписных обителей. Эти перемены были результатом усилий братии небольших или разоренных монастырей, рассчитывавших с помощью организационно более сильного монастыря обеспечить защиту себя и своих владений от «воровских людей». Правительства ополчений в 1611-1612 гг. приписали к Троице-Сергиеву монастырю Никольский Чухченемский (Чухчеремский) мон-рь и алатырский во имя Святой Троицы мужской монастырь . К 1616 г. в состав троицкой вотчины вошли мон-ри Авнежский во имя Святой Троицы , Стефанов Махрищский во имя Святой Троицы , Макариева пуст. в предместье Бежецка, в 1616-1617 гг. за ними последовал Стромынский в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь . Троицкие власти стали проводить перепись имущества этих обителей и посылать для управления ими своих старцев. Усилия Д. и братии были направлены на то, чтобы права и привилегии Троице-Сергиева мон-ря были распространены на владения приписных мон-рей. Это было сделано в новой жалованной грамоте 1617 г., к-рая распространила традиц. права и привилегии и на новые приобретения Троицкого мон-ря.
После отмены в 1584 г. тарханных несудимых грамот владения мон-ря должны были платить в гос. казну все основные налоги, но в 1598-1599 гг. царь Борис Феодорович Годунов освободил монастырскую пашню от обложения, а пашня монастырских слуг и крестьян должна была облагаться не по нормам, установленным для церковных земель, а по более льготным нормам, установленным для поместных земель. В первые годы правления царя Михаила Феодоровича эти установления перестали выполняться. В дек. 1616 г. Д. и Авраамий (Палицын) подали грамоты Бориса Годунова в Поместный приказ. Царские грамоты 1617 и 1619 гг. признали за монастырем соответствующие права, но на практике они из-за произвола чиновников не всегда соблюдались.
На первые годы правления Михаила Феодоровича пришлось начало большой работы по приведению в порядок обширного троицкого архива. В 1614 - нач. 1615 г. «всего собора советом» была составлена копийная книга - сборник списков наиболее важных полученных монастырем жалованных грамот и актов дарений. В обширном предисловии к книге его автор (по мнению ряда исследователей, Д.), цитируя правила V и VII Вселенских Соборов и 75-ю гл. Стоглава , доказывал право Церкви получать земельные дарения, чтобы иметь возможность обеспечить вечное поминовение душ вкладчиков. Одновременно в предисловии подчеркивался долг братии непрерывно совершать такое поминовение. 25 марта 1616 г. в мон-ре началось составление «черных книг крепостной казны», содержавших копии текущих, поступавших в монастырь документов.
Постоянное удовлетворение в 1613-1618 гг. разнообразных ходатайств троицких властей говорит о теплых, близких отношениях, установившихся между обителью и молодым царем в эти годы настоятельства Д. В 1616 г. Михаил Феодорович подарил мон-рю золотое кадило, украшенное драгоценными камнями, воздухи и покровы. В нояб. того же года царь пожаловал Троицкой обители «городок Радонеж со всякими угодьи» - единственное земельное пожалование царского дома мон-рю в 1-й пол. XVII в.
О расположении молодого царя к обители говорит и распоряжение в окт. 1615 г. прислать в Москву ученых троицких старцев Антония (Крылова) и Арсения Глухого, а также Иоанна Наседку для подготовки к изданию Требника. Однако справщики заявили, что одни не могут взяться за эту работу, и 8 нояб. 1616 г. царь поручил Д. провести исправления Требника в Троице-Сергиевом мон-ре и привлечь к этой работе тех старцев, к-рые «подлинно и достохвально извычны книжному учению и граматику и риторию умеют». Д. и старцы должны были не только внести исправления, но и обновить состав книги, чтобы в ней были собраны «многия нужнейшия потребные вещи, без которых вашему священническому чину и всем православным христианом быть нельзя». Работа по правке богослужебных книг к тому времени в монастыре уже была начата: в 1615/16 г. старцем Арсением Глухим были подготовлены 2 рукописи Канонника - одна «повелением и замышлением», другая «помощию и повелением» Д. (РГБ. Ф. 304/I. № 281, 283). Производилась не только сверка текста по аналогичным спискам, но и правка служб и канонов, написанных «неискусными творцы грамотичному учению».

Работа по выполнению царского распоряжения об исправлении Требника продолжалась в течение полутора лет. Главными помощниками Д. были старцы Арсений Глухой и Антоний (Крылов), а также Иоанн Наседка. Справщики не знали греч. языка и ограничились сличением находившихся в их распоряжении слав. рукописей. Предпочтение отдавалось чтению более древних списков. В ряде случаев книжники просили архиеп. Арсения Элассонского навести справки в имевшихся у него греч. рукописях. В результате текст Требника был исправлен и существенно расширен по сравнению с изданием 1602 г. Книжники вышли за рамки задания, занявшись правкой и др. богослужебных книг - Триоди Цветной, Октоиха, Общей Минеи, месячных Миней.
Наблюдения исследователей показывают, что дело не ограничивалось сличением списков. Троицкие книжники обращали внимание и на содержание текста, переставляя знаки препинания, заменяя одни слова и выражения другими. Справщики стремились исправлять смысловые ошибки, а также удалять из текстов отдельные вкравшиеся ошибочные чтения. Многие из предложенных ими поправок вошли затем в московские издания XVII в. По инициативе Д. была проделана систематическая правка заключительных славословий в молитвах. Из конечных славословий молитв, обращенных к Богу Отцу или к Богу Сыну, было изъято обращение к др. Лицам Св. Троицы. Обращение ко всем 3 Ипостасям Троицы помещалось в славословиях лишь тех молитв, где «не было особных имен». Поправка, вызвавшая впосл. наиболее резкую реакцию, была сделана в молитве на освящение воды, читавшейся в навечерие Богоявления. Из прошения: «Сам и ныне, Владыко, освяти воду Духом Твоим Святым и огнем» - были удалены слова «и огнем». Справщики основывались на том, что в более ранних Служебниках эти слова отсутствовали, а в рукописях 2-й пол. XVI в. они помещались на полях или над строкой.
Работа была завершена к маю 1618 г. Д. представил исправленные тексты местоблюстителю патриаршего престола Ионе (Архангельскому) , митр. Сарскому и Подонскому, чтобы проделанная работа получила оценку церковного Собора. Протокол заседаний Собора, начавшего работу 4 июля 1618 г., не сохранился, сведения о Соборе содержатся в ряде появившихся позднее полемических сочинений. На Соборе против Д. и его помощников выступила группа троицких монахов во главе с такими влиятельными старцами, как уставщик Филарет, головщик Лонгин Корова, ризничий Маркелл. Они обвинили Д. в том, что он «во многих книгах выскребал, и вырезал, и писал во том месте по своему произволу». Их поддержал архим. Чудова в честь Чуда архангельского Михаила в Хонех монастыря Авраамий. После долгих и упорных споров Д. и его сотрудникам был вынесен обвинительный приговор. Собор осудил их за то, что они «имя Святые Троицы в книгах велели морати и Духа Святого не исповедуют, яко огнь есть». 1-е из этих обвинений было связано с исправлением конечных славословий в молитвах. 2-е обвинение имело в виду изъятие справщиками слов «и огнем» в молитве на великом освящении воды. К нач. XVII в. сложился обычай при освящении воды погружать в нее зажженные свечи. Обоснование такой практики видели в словах св. Иоанна Предтечи о Христе: «Той вы крестит Духом Святым и огнем» (Лк 3. 16), к-рые неверно толковались как отождествление Св. Духа с огнем.
Д. и Иоанну Наседке было запрещено служить, старцы Арсений Глухой и Антоний (Крылов) были лишены причастия. Настоятель и старцы должны были отправиться в ссылку в разные мон-ри. В течение 4 дней после принятия решения Д. приводили «в ответ на патриарш двор с великим бесчестием и позором», затем в кельи царицы-инокини Марфы в московском в честь Вознесения Господня монастыре и на подворье митр. Ионы, где святого подвергали побоям. Было принято решение отправить Д. в ссылку в Кириллов Белозерский в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырь , но, поскольку Москва в тот момент была окружена войсками польск. королевича Владислава, Д. был заключен в Новоспасский московский в честь Преображения Господня монастырь , где на него была наложена епитимия - тысяча поклонов в день. У преподобного оставались сторонники среди троицкой братии, от них Д. получил «утешительное послание», обнаруженное в бумагах преподобного после его смерти.
Положение Д. улучшилось после приезда в апр. 1619 г. в Москву Иерусалимского патриарха Феофана IV . Сторонники Д. уведомили патриарха о происшедшем, и, по-видимому, благодаря его вмешательству Д. был освобожден. В июне 1619 г. Д. вместе с митр. Ионой встречал в с. Хорошёве под Москвой возвращавшегося из польск. плена Филарета . Через неделю после возведения Филарета на патриарший престол был созван Собор для пересмотра дела Д. и его помощников. По свидетельству Иоанна Наседки, на нем Д. в течение 8 ч. отвечал на возводимые против него обвинения. Сохранилась начальная часть речи Д. В ней преподобный, опровергая аргументы обвинителей, отмечал, что, за исключением приведенных слов св. Иоанна Предтечи из Евангелия от Луки, в остальных Евангелиях и в апостольских Деяниях говорится о Крещении водой и Св. Духом. Отсюда следовал вывод: «Молитвою апостольскою крещаемым подавашеся Дух Святый, но не в огненных видениих». В этой связи Д. указывал на отсутствие слов «и огнем» в молитве, читающейся при освящении воды в чине Крещения. Д. также доказывал, что Бог, Творец всего мира, не может отождествляться с одной из стихий - огнем. Сопоставление сохранившейся части речи Д. с написанным после Собора соч. Иоанна Наседки «Изысканное от многих Божественных книг свидетельство о прикладе огня» показало, что речь Д. явилась одним из главных источников начальной части этого труда (возможно, и остальной текст сочинения Иоанна Наседки основан на речи преподобного).

Работа Собора завершилась полным оправданием Д. и его помощников. Арсений Глухой и Антоний (Крылов) стали справщиками Московского Печатного двора, а Иоанн Наседка - священником придворного Благовещенского собора. Д. вернулся в Троице-Сергиев мон-рь и управлял им до кончины. Когда вскоре после решений Собора обитель посетил патриарх Феофан, он, по свидетельству Иоанна Наседки, снял клобук и, преклонившись им к раке прп. Сергия, возложил на голову Д.- «да будеши первый старейшинства над иноки многими по нашему благословению» (Житие. С. 460) (в описях Троице-Сергиевой лавры клобук Иерусалимского патриарха не упом.).
Начало 2-го периода управления Д. Троице-Сергиевым мон-рем ознаменовалось рядом важных работ, цель к-рых состояла в том, чтобы дать троицким властям материал об истинном состоянии владений монастыря. В 1621 г. группа соборных старцев во главе с Макарием (Куровским) сделала опись жалованных грамот и поземельных актов, хранившихся в монастырской казне. В 1623 г. были составлены т. н. сыскные книги, в к-рых свидетельства документов о монастырских владениях были дополнены записями опросов населения на местах троицкими слугами. Были продолжены и внутривотчинные описания троицких владений, от которых сохранилась лишь небольшая часть.
За время 2-го настоятельства Д. земельные владения Троицкого монастыря незначительно увеличились за счет приписки к нему 2 небольших обителей: Антониевой Покровской пуст. в Переяславском у. (ранее состоявшей во владениях митрополичьей кафедры) в 1627-1628 гг. и чердынского во имя апостола Иоанна Богослова мужского монастыря на Урале в 1632 г. Начиная со 2-го десятилетия XVII в. землевладение мон-ря стало заметно расти за счет вкладов как знати и представителей верхушки приказной бюрократии, так и мелких и средних провинциальных детей боярских. Одной из причин такого расширения троицкой вотчины были, как свидетельствует Симон (Азарьин), особые старания Д. по организации постоянного заздравного и заупокойного поминовения вкладчиков (на литургии, служением панихид, молебнов), преподобный «не хотел ни единаго гроба» вкладчиков «поминути» (пропустить) (эти распоряжения настоятеля, увеличивавшие время богослужения, вызывали недовольство части братии). К 20-м гг. XVII в. исследователи относят появление протографа сохранившихся троицких вкладных книг 1639 и 1673 гг.
Изучение отложившихся в троицком архиве актов, внутривотчинных и гос. описаний троицких земель позволило выяснить 2 важные особенности той хозяйственной политики, к-рую проводили во владениях мон-ря троицкие власти во главе с Д. К посл. десятилетиям XVI в. в троицкой вотчине существовала повсеместно значительная барская запашка. В 20-х гг. XVII в. размер запашки намного уменьшился, все больше крестьян переводилось на денежный или продуктовый оброк. Для восстановления хозяйственной жизни в запустевших владениях широко практиковалась их отдача в пожизненное держание светским землевладельцам, что содействовало укреплению связей мон-ря с обширным кругом его соседей.
Проблемы для властей Троице-Сергиева мон-ря создавали злоупотребления монастырских светских слуг при выводе беглых троицких крестьян из владений бояр и детей боярских. По свидетельству Симона (Азарьина), мн. монастырские слуги, отбирая под разными предлогами крестьян в чужих владениях, отвозили их вовсе не в мон-рь, а во владения своих родственников. Когда по жалобам обиженных возбуждались судебные дела, вывезенных холопов и крестьян прятали в др. местах. В результате светские слуги Троицкого мон-ря своими действиями «до конца обитель сию в последнее поношение введоша и в ненависть от всего народа Российского государства, от вельмож и от простых». Подтверждение высказываниям Симона дают многочисленные судебные дела, возбуждавшиеся светскими землевладельцами против Троице-Сергиева мон-ря. Такие действия троицких слуг вызывали глубокое возмущение Д., но он не мог положить им конец, поскольку слуги игнорировали его распоряжения, опираясь на помощь «некоторых злохитрых пособников». Они, по свидетельству Симона (Азарьина), «наседающе на него, хотяху и власти лишити».
Светские монастырские слуги нашли поддержку и покровительство у не названного в Житии по имени эконома Троицкого мон-ря. По мнению Скворцова, это был влиятельный старец Александр (Булатников) , троицкий келарь в 1622-1641 гг. Келарь, так же как и монастырские слуги, хотел поживиться за счет мон-ря, попытавшись обменять пустошь, принадлежавшую его родственнику, на якобы запустевшее, а в действительности находившееся в хорошем состоянии одно из владений обители. Близкие отношения с царской семьей (Александр являлся восприемником царских детей в Крещении) позволили келарю добиться одобрения сделки царем и патриархом, но Д. воспротивился ее осуществлению. Тогда Александр обвинил Д. в том, что тот не выполняет царских повелений. Архимандрит был вызван в Москву, где «в скаредное место и темное ввержен бысть и ту три дня в смраде пребысть». Ему удалось оправдаться, но келарь подал новый донос, обвиняя Д. в желании стать патриархом. Дело дошло до того, что, когда на монастырском соборе настоятель не согласился с мнением келаря, тот ударил Д. и запер в келье. Д. был освобожден по приказу посетившего мон-рь царя. Преподобный не настаивал на наказании келаря и даже просил простить его, чем снискал расположение монарха. Последующие доносы на Д. не имели успеха.
В нач. 20-х гг. и для троицкой братии, и для Д. важным делом было добиться подтверждения прав и привилегий мон-ря во время предпринятого гос. властью пересмотра жалованных грамот. Цель эта в основном была достигнута. По жалованным грамотам, полученным монастырем 17 окт. 1624 и 11 апр. 1625 г., мон-рь сохранил и полноту судебно-адм. власти над населением своих владений, и право самому собирать налоги и вносить их в гос. казну. В соответствии с данными грамотами статус мон-ря серьезно изменился. Если ранее, как и др. обители, Троице-Сергиев монастырь был подчинен приказу Большого дворца, то по грамотам 1624 и 1625 гг. верховным судьей для троицкой братии стал патриарх «или кому он, великий государь, повелит их судити». После этого судебные дела, касавшиеся мон-ря, стали рассматривать либо лично Филарет, либо судьи Патриаршего разряда. При участии патриарха решались и некоторые важные вопросы внутренней жизни Троице-Сергиевой обители. Так, когда в Успенском Стромынском мон-ре крестьяне начали держать корчмы, а монахи - пьянствовать, при этом и те и другие не желали подчиняться троицким властям, патриарх не только положил конец конфликту, но и выдал в 1625 г. грамоту с перечнем мер, к-рые троицкие власти должны осуществить в приписном мон-ре. Установление прямой судебной подведомственности Троице-Сергиева мон-ря патриарху, расположенному к Д., несомненно, способствовало тому, что имевшие место в монастыре в нач. 20-х гг. XVII в. конфликты не получили продолжения и положение настоятеля упрочилось. С этого времени царь и патриарх стали делать вклады в мон-рь: от серебряного потира и золотых цат с драгоценными камнями для иконы Св. Троицы, подаренных в 1626 г., до печатного напрестольного Евангелия с золотым окладом, украшенным драгоценными камнями, поступившего в обитель в 1632 г.; в апр. 1625 г. первосвятитель пожертвовал в обитель 100 р.

Прп. Дионисий Радонежский. Фрагмент иконы "Собор святых учеников прп. Сергия Радонежского". 2-я пол. XIX в. (Успенский собор ТСЛ)
Прп. Дионисий Радонежский. Фрагмент иконы "Собор святых учеников прп. Сергия Радонежского". 2-я пол. XIX в. (Успенский собор ТСЛ)
Оживление хозяйственной жизни после окончания Смуты дало возможность Д. возобновить в 20-х гг. работы по благоустройству и украшению обители. В 1621 г. к старой трапезной палате была пристроена каменная ц. во имя прп. Михаила Малеина - небесного покровителя царя Михаила Феодоровича. В 1622 г. была разобрана, затем вновь выстроена церковь над гробом прп. Никона , освященная 21 сент. 1624 г., в следующем году обложены серебром иконы в этой церкви. Украшался и один из главных храмов монастыря - Успенский собор: в 1621 г. были «подписаны киоты верхние над алтарем», в 1625 г. обложены серебром и позолочены иконы Спасителя, праздников и пророков. В троицких придельных церквах медные и оловянные богослужебные сосуды были заменены серебряными, для изготовления новой утвари Д. «серебра своего прикладывал». Возводились в мон-ре и хозяйственные постройки: в 1624 г. были сооружены кирпичные палаты «у келарской» и кирпичные кузницы, в 1628-1629 гг. после пожара восстанавливались братские кельи. По свидетельству Симона (Азарьина), мн. работы делались потому, что Д. «кормил» в мон-ре мастеров и платил им «от своих келейных достатков». На обустройство обители расходовалась и милостыня, полученная от «боголюбцев». За пределами обители Д. также строил новые храмы и обновлял старые, снабжая их утварью.
Настоятельство Д. принесло перемены в порядке богослужений в Троице-Сергиевом мон-ре. Д. установил обычай на мн. праздники служить всенощные бдения с литиями, совершать за каждой воскресной всенощной благословение хлебов. На воскресных литиях он ввел пение богородичных стихир Павла Аморрейского и догматиков (вероятно, богородичнов Октоиха для малой вечерни) 8 гласов. Такое предписание читалось уже в Каноннике 1615/16 г. (РГБ. Ф. 304/I. № 281). В рукописи Симона (Азарьина) соответствующие тексты и предписание петь их на воскресных службах помещены вместе с Житием Д. По свидетельству свящ. Иоанна Наседки, Д. также установил обычай читать в Великий пост и на мн. праздники, особенно в день Св. Троицы, Слова свт. Григория Богослова, Беседы на Евангелия и Апостол свт. Иоанна Златоуста. Точность этого свидетельства подтверждает запись на рукописи Слов свт. Григория Богослова, принадлежавшей мон-рю: «Чтут по ней на соборе, и у Троицы, и в трапезе» (Там же. № 136). Труды святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, прп. Иоанна Дамаскина, сщмч. Дионисия Ареопагита были постоянным келейным чтением Д. Сохранился принадлежавший преподобному список Слов свт. Григория Богослова (Там же. № 710). Слова свт. Григория Богослова и Беседы на Евангелия свт. Иоанна Златоуста по приказу Д. переписывали и рассылали в различные мон-ри и храмы и даже в книгохранилище «великия первыя церкви» - московского Успенского собора.
По свидетельству Симона (Азарьина), Д. обратил внимание на хранившиеся в мон-ре полузабытые к тому времени рукописи переводов и сочинений прп. Максима Грека . Благодаря хлопотам Д. была приведена в порядок могила прп. Максима у Свято-Духовской ц. Уже к кон. 20-х гг. XVII в. имя ученого грека было окружено в монастыре особым пиететом: на него ссылались троицкие старцы во время споров о правке книг. В 20-х гг. XVII в. была предпринята серьезная работа по собиранию и переписке произведений прп. Максима, тогда было составлено Троицкое собрание его сочинений (Там же. № 200).
Др. крупное начинание, предпринятое при участии Д., связано с именем его учителя Германа (Тулупова). Приняв постриг в Троице-Сергиевом мон-ре ок. 1626/27 г., он «повелением и благословением» Д. в 1627-1632 гг. составил Четьи-Минеи, в к-рых большее место, чем обычно, заняли Жития рус. святых. Кроме того, Герман составил сборник Житий рус. святых (Там же. № 694) и сборник, содержавший Жития преподобных Сергия и Никона Радонежских и службы им (Там же. № 699). В последней рукописи текст был правлен Д.

Деятельность Д. имела целью поднять неудовлетворительный уровень образованности насельников Троицкой обители, часть которых во главе с уставщиком Филаретом и головщиком Лонгином Коровой (авторитет последнего затронула правка Д. и его сотрудниками Устава, изданного в 1610 при участии Лонгина) сопротивлялась нововведениям и продолжала называть преподобного еретиком. Нападки на Д. во многом были следствием того, что преподобный неоднократно при личной беседе обличал тщеславие Лонгина и ложные воззрения Филарета (по свидетельству иоанна Наседки, Филарет учил, что Бог Сын род. не «прежде век», а после Благовещения, кроме того, Филарет Бога «глаголаше... человекообразна суща и вся уды имеюща по человечу подобию»). Обосновывая свою правоту в части изменений в богослужении, Д. ссылался на древние уставы, в т. ч. «харатейные». Благодаря терпению и такту Д., стремившегося не обострять разногласий, конфликты со временем прекратились.
Симон (Азарьин) и Иоанн Наседка описывают Д. как человека, обладавшего совершенными смирением и незлобием, терпеливого к оскорблявшим его и радовавшегося страданиям. Д. был убежден в важности иноческого подвига и добивался того, чтобы троицкие иноки были на высоте своего служения; провинившихся наказывал незамедлительно, но бывал скор к прощению. Святой был кроток по отношению к братии, действовал не приказом, но убеждением, о проступках с виновными беседовал наедине. Д. служил примером для братии в молитве церковной, первым являлся в храм к богослужению, побуждал братию молиться, имел дар слезной молитвы. В келье, где Д. жил вместе с неск. учениками, помимо правила святой упражнялся в псалмопении, клал многочисленные поклоны, ежедневно читал каноны праздникам. Отличаясь телесной крепостью, Д. много времени посвящал делам, связанным с управлением мон-рем и его владениями, вместе с братией участвовал в полевых работах. К монахам и слугам мон-ря относился как добрый отец, внимательный к их нуждам. По его настоянию братский собор разрешил монастырским работникам иметь семьи и строить дворы. Д. поддержал И. Неронова (впосл. член ревнителей благочестия кружка , один из учителей старообрядчества), к-рый, будучи чтецом в с. Никольском близ Юрьева-Польского, вступил в конфликт с местными священниками, обвинив их в «развратном житии». После жалобы последних патриарху Филарету Неронов был вынужден бежать и нашел приют у Д., к-рый поселил его в своей келье, затем добился у патриарха прощения Неронова. При поддержке Д. Неронов стал священником.
Известны вклады, сделанные преподобным в разные мон-ри. Возможно, в связи с пострижением Д. («поп Давид») дал в старицкий Успенский мон-рь между 1589 и 1598 гг., при архим. Трифоне, «ризы, стихарь, потрахиль и поруча, да книг трие Трефолоя... да два Октаи на осмь гласов, да Устав, да Соборник». Собственноручная запись Д. об этом (частично утраченная) сохранилась на одном из вложенных Октоихов (Бухарест. БАН Румынии. Слав. № 344), возможно переписанном вкладчиком (Panaitescu P . P . Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academici Române. Bucureşti, 2003. Vol. 2. P. 121-122); вещи из этого вклада упоминаются в «Описных книгах Старицкого монастыря» 1607 г. Будучи настоятелем Старицкого мон-ря, преподобный заказал для иконы Божией Матери в Успенском соборе украшенные жемчугом и драгоценными камнями «поднизи». Живя в Троице-Сергиевой обители, Д. продолжал делать вклады в обитель, где он принял постриг: в этот период от него поступили иконы Успения Пресв. Богородицы и Св. Троицы, серебряные сосуды и кадило, серебряный напрестольный крест, Евангелие и Пролог (РГБ. Рогож. № 462, XVI в.). В Нилову пуст. преподобный вместе с Ростовским митр. Варлаамом пожертвовал 20 икон, позднее часы с боем. В Калязин мон-рь Д. и Авраамий (Палицын) пожертвовали покровы на гроб прп. Макария . Сохранились рукописи (Минея служебная за апр., Пролог, сентябрьская половина) - вклады Д. по себе и родителям в храмы Служней слободы. В одной из книг имеется вкладная запись - автограф Д. Вклады преподобного в Троице-Сергиев мон-рь не были особенно значительными: в 1617 г. за 20 р. была куплена чаша для водосвятия, тогда же он дал деньги (47 р.) и железо на устройство кровли Успенского собора. После кончины преподобного мон-рю отошли деньги и имущество из его кельи, оцененное в большую сумму - 510 р.
До последнего дня, несмотря на болезнь, Д. совершал богослужение. Перед кончиной он просил постричь его в великую схиму и во время совершения обряда скончался. Точная дата смерти преподобного в Житии не указана. Останки Д. по повелению патриарха Филарета были привезены в Москву в Богоявленскую ц. за Ветошным рядом (см. Московский в честь Богоявления мужской монастырь), где первосвятитель совершил отпевание. 10 мая Д. был похоронен в Троице-Сергиевом мон-ре у юго-зап. притвора Троицкого собора. В наст. время мощи святого почивают под спудом в Серапионовой палатке у Троицкого собора.
Почитание
Д. в Троице-Сергиевом мон-ре и в Тверском крае установилось сразу после его кончины. Симон (Азарьин) присоединил к Житию рассказы о 13 чудесах преподобного, из к-рых последнее произошло в 1652 г. Первые известные чудеса по молитвам к Д., датируемые 1633-1634 гг., совершались в кругу его учеников и последователей. Симон записал рассказы о явлениях Д. его ученику, бывш. архимандриту владимирского в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Перфилию, свящ. Служней слободы Феодору, мон. Вере из хотьковского в честь Покрова Пресвятой Богородицы монастыря - Д. благословлял их или утешал.

Святые и преподобные отцы, почивающие в Свято-Троицкой Сергиевой лавре". Литография. 1845 г. (СПГИАХМЗ). Крайний справа - прп. Дионисий
Святые и преподобные отцы, почивающие в Свято-Троицкой Сергиевой лавре". Литография. 1845 г. (СПГИАХМЗ). Крайний справа - прп. Дионисий
Одним из ранних центров почитания Д. стал Кожеезерский в честь Богоявления муж. мон-рь. Здесь старец Боголеп (Львов) записал рассказ о явлении прп. Никодиму Кожеезерскому митр. св. Алексия вместе с Д. и послал запись патриарху Иосифу . В 1648 г. рассказ о явлении Д. прп. Никодиму слышал П. Головин, бывший тогда воеводой на р. Лене. В том же году в Троице-Сергиев мон-рь для поклонения гробу Д. приехали донские казаки, поведавшие о том, что преподобный «велику» им «помощь подавал явлением на море на супротивныя». В 1650 г. со слов инока Антония (Яринского) был записан рассказ донских казаков о явлении их «старейшине» Богоматери с апостолами Петром и Иоанном и с преподобными Сергием, Никоном и Д. и о предсказании поражения от турок.
В кон. XIX в. при Владимирской ц. в Ржеве был устроен придел во имя Д. В Успенском соборе Старицкого мон-ря посвященный преподобному придел был освящен 28 сент. 1897 г., в обители хранилась митра Д.
Симон (Азарьин) включил имя Д. в составленный им ок. сер. 50-х гг. XVII в. Месяцеслов под 10 мая (РГБ. Ф. 173. № 201. Л. 316 об.). С таким же днем памяти Д. назван в «Описании о российских святых» (кон. XVII-XVIII в.). Московский митр. св. Филарет (Дроздов) установил «править молебен» по Д. в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры 5 мая, но уже в кон. XIX в. память Д. в лавре совершалась 12 мая. Канонизация Д. подтверждена включением его имени в Собор Тверских святых (празд. установлено в 1979), Собор Радонежских святых (празд. установлено в 1981), Собор Московских святых (празд. установлено в 2001).
Ист.: [Симон (Азарьин)] . Канон прп. отцу нашему Дионисию, архим. Троице-Сергиевы лавры, Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением Жития его. М., 18556; он же . Книга о новоявленных чудесах прп. Сергия Радонежского // Клосс Б . М . Избр. труды. М., 1998. Т. 1. С. 460, 470-492; СГГД. Т. 2. № 275; ААЭ. Т. 2. № 190, 202, 219; Т. 3. № 1, 11, 66; АИ. Т. 3. № 2, 58, 69; ДАИ. 1846. Т. 2. № 35, 37, 49; Леонид (Кавелин), архим . Надписи Троицкой Сергиевой лавры. СПб., 1881; Описные книги старицкого Успенского мон-ря. 7115/1607. Старица, 1912. С. 2, 13, 19, 38; Сборник грамот Коллегии экономии. Пг., 1922. Т. 1: Грамоты Двинского у. № 316, 340, 491, 529а, 530; Сказание Авраамия (Палицына) / Подгот. текста и коммент.: О. А. Державина, Е. В. Колосова; Ред.: Л. В. Черепнин. М.; Л., 1955; ВКТСМ; Ткаченко В . А . Жалованная данная грамота царя Михаила Федоровича «в дом Пресв. Живоначальной Троицы и преп. чудотворцу Сергию» на городок Радонеж от 5 нояб. 1616 г. // Сообщ. Сергиево-Посадского музея-заповедника. М., 1995. С. 38-48; Прп. Дионисий Радонежский: Житие; Повествование о чудесах прп. Дионисия. Серг. П., 2005 [рус. пер.]; Житие архим. Троице-Сергиева мон-ря Дионисия / Подгот. текста, пер. и коммент.: О. А. Белоброва // БЛДР. 2006. Т. 14. С. 356-462.
Лит.: Филарет (Гумилевский) . РСв. Май. С. 81-95; Казанский П . С . Исправление церк.-богослужебных книг при патр. Филарете. М., 1848; СИСПРЦ. СПб., 1862. С. 84-85; Смирнов А . П . Святейший патр. Филарет Никитич Московский и всея России. М., 1874. 2 ч.; Кедров С . И . Авраамий Палицын // ЧОИДР. 1880. Кн. 4. С. 71-76; Барсуков . Источники агиографии. Стб. 168-169; Скворцов Д . И . Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева мон-ря (ныне лавры). Тверь, 1890; он же . Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева мон-ря: (Очерк жизни и деятельности его, преимущественно до назначения в троицкие архимандриты). Тверь, 1890; Леонид (Кавелин) . Св. Русь. С. 146-147; Димитрий (Самбикин) . Месяцеслов. Май. С. 18-23; Никольский Н . К . К истории наказаний писателей в XVII в. // Библиогр. летопись. 1914. Т. 1. С. 126-128; Гречев Б . Рус. Церковь и Рус. гос-во в смутные годы: Патр. Ермоген и архим. Дионисий. М., 1918; Федукова (Уварова) Н . М . Редакции «Жития Дионисия»: (К пробл. изуч. лит. истории сочинений Симона (Азарьина)) // Лит-ра Др. Руси: Сб. тр. М., 1975. Вып. 1. С. 71-89; Белоброва О . А . Автограф Дионисия Зобниновского // ТОДРЛ. Т. 17. С. 388-390; она же . Дионисий Зобниновский // СККДР. Вып. 3. Ч. 1. С. 274-276 [Библиогр.]; она же . Из реального комментария к Житию Дионисия, архим. Троице-Сергиева мон-ря // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: Мат-лы междунар. конф. 29 сент.- 1 окт. 1998 г. М., 2000. С. 132-146; она же . Об источниках жития Дионисия, архим. Троице-Сергиева мон-ря // ТОДРЛ. 2001. Т. 52. С. 667-674; Черкасова М . С . Крупная феодальная вотчина в России кон. XVI-XVII вв. (по архиву ТСЛ). М., 2004; Кириченко Л . А . Актовый материал Троице-Сергиева мон-ря 1584-1641 гг. как источник по истории землевладения и хозяйства. М., 2006 (по указ.).
Б. Н. Флоря
Иконография
Первые изображения Д. появились сразу после его кончины. В Житии святого отмечено, что, когда тело его было положено в гроб, «нецыи от иконописцов подобие лица его на бумаге начертаху» (Арсений, иером . Ист. сведения об иконописании в ТСЛ // СбОДИ на 1873 г. М., 1873. С. 120; Белоброва . 2005. С. 87). Архиеп. Филарет (Гумилевский), ссылаясь на слова Симона (Азарьина), привел описание внешности Д.: «Роста высокого, с лицом благолепным, с очами веселыми, с брадою долгою и широкою; с него усопшего снят был портрет» - и упомянул хранившийся в ТСЛ «древний портрет» с надписью: «Образ св. Дионисия, архимандрита Троицкого» (Филарет (Гумилевский) . РСв. Май. С. 86).
Очевидно, подразумевалось изображение Д. на холсте, близкое по стилистике к парсуне, к-рое в наст. время предположительно датируется XVIII в. (ТСЛ, происходит из митрополичьих покоев). Святой показан средовеком с длинными темными волосами и бородой средней величины, вполоборота вправо, в красной орнаментированной фелони с оплечьем и в митре с опушкой, в правой руке игуменский посох, в левой - светлые четки, нимб и надпись на темном фоне, возможно, выполнены позднее. Не исключено, что портрет создан на основе несохранившихся посмертных зарисовок облика Д., хотя и отличается от словесного описания с упоминанием длинной бороды (по мнению И. М. Снегирёва, укорочена, «чтобы не закрыть его облачения».- Ровинский . Словарь гравированных портретов. Т. 4. Стб. 197-198). Извод и детали изображения (рисунок орнамента фелони) воспроизводились впосл. мастерами, работавшими в ТСЛ, напр. в росписи 1883 г. трапезной части ц. прп. Сергия Радонежского на вост. откосе окна в алтаре придела свт. Иоасафа Белгородского (в рост). Копия портрета экспонировалась в Румянцевском музее, хромолитография по рис. Ф. Г. Солнцева была опубликована (Снегирёв И . М . Древности Рос. гос-ва. М., 1851. Отд. 4. С. 13-16. Табл. 4), с нее писались иконы (живопись на металле, вклад 1857 г. в ТСЛ - Белоброва . 2005. С. 89, 92).
На ранних единоличных иконах, созданных вскоре после смерти Д., он изображался средовеком с широкой, окладистой бородой, в рост, в молении Св. Троице Ветхозаветной и образу Божией Матери «Знамение», облаченным в фелонь, подризник с палицей, епитрахиль и митру, в правой руке крест, в левой - Евангелие. Известна копия 1854 г. иконописца Д. А. Болобонова (из собр. ЦАМ СПбДА, не сохр.?) с образа XVII в. в басменном окладе с накладным венцом и цатой, с надписью на обороте: «Молится сему образу Иванъ Иванов с[ы]нъ Ощвусовъ» (находился в ц. Владимирской иконы Божией Матери при богадельне в Ржеве в приделе во имя Д.). Др. аналогичные копии были присланы Е. В. Берсеневым в Тверской музей (Жизневский А Прп. Дионисий Радонежский. Фрагмент иконы. 2-я пол. XIX в. (частное собрание)
В рукописи XVII в. (ГИМ. Хлуд. № 214) в верхней части рамки-заставки, открывающей Житие Д., встречается др. ранний извод его иконографии - поясной фронтальный образ с нимбом, средних лет, тоже в богослужебном облачении, с благословляющей десницей и Евангелием в левой руке. Подобный тип изображения - в росписи алтаря Софийского собора в Вологде, сделанной в 1686-1688 гг. ярославскими мастерами (в 1684 работали в ТСЛ), где у преподобного очень большая округлая борода с волнистыми прядями и выразительное лицо. Очевидно, уже в это время образ Д. соотносился с образом прп. Максима Грека, тоже помещенным в стенописи алтаря. Вероятно, традиция прямоличной иконографии Д. восходила к «старинной» иконе на его гробнице, к-рая в кон. XIX в. вместе с такими же изображениями святых Серапиона, архиеп. Новгородского, и Иоасафа (Скрипицына), митр. Московского, находилась в притворе Успенской ц. Гефсиманского скита ТСЛ (Гефсиманский скит. Серг. П., 1898. С. 22).
В иконописном подлиннике 1694 г. под 10 мая о внешнем облике Д. сказано: «Мало надсед, брада Власиевой шире вдвое, ризы преподобническия, руце молебны, а инде в ризах и шапке [митре]» (РНБ. О.XIII.6. Л. 178 об.). В рукописи кон. XVIII в. добавлено: «...инде в схиме» (БАН. Строг. № 66. Л. 105 об.), в списке 30-х гг. XIX в.- борода святого «подвоилась» (ИРЛИ (ПД). Перетц. № 524. Л. 159). Наиболее подробное описание содержится в сводном подлиннике Г. Д. Филимонова XVIII в.: «Подобием мало надсед, брада аки Власиева, гораздо шире; ризы архимандрическия, и в шапке; нецыи пишут ризы преподобническия и в схиме» (Филимонов . Иконописный подлинник. С. 54, см. также: Большаков . Подлинник иконописный. С. 97-98; РГБ. Унд. № 130. Л. 135 об.). В нек-рых рукописях указан только вариант изображения Д. в преподобническом одеянии (РНБ. О.ХIII.11. Л. 126; БАН. 45.10.1. Л. 112 об.).
Сохранилось неск. изображений Д. в составе композиции Собора Радонежских святых. Наиболее ранний образец - на иконе «Прп. Сергий Радонежский с учениками в молении Св. Троице» кон. XVII в., выполненной в мастерской Троице-Сергиева мон-ря (СПГИАХМЗ, см.: Прп. Сергий Радонежский в произведениях рус. искусства XV-XIX вв.: Кат. выст. [М.], 1992. С. 97. Кат. 14. Ил. 18): фигура Д., в фелони и митре (вычеканена на окладе), с большой коричневой бородой, с Евангелием в руках, помещена в нижнем ряду 1-й слева, рядом с прп. Стефаном Махрищским, напротив прп. Максима Грека. Образ Д. встречается на 2 аналогичных по композиции иконах «Собор святых учеников прп. Сергия» 2-й пол. XIX в. из Успенского собора ТСЛ (находятся на зап. грани юго-зап. столпа и на вост. грани сев.-вост. столпа): в 1-м ряду правой группы, между преподобными Никоном Радонежским и Максимом Греком.
Преподобные Дионисий и Антоний Радонежские. Икона. Нач. XXI в. Иконописец иером. Филадельф (Захаров) (ризница ТСЛ)
Преподобные Дионисий и Антоний Радонежские. Икона. Нач. XXI в. Иконописец иером. Филадельф (Захаров) (ризница ТСЛ)
Образ Д. встречается также в тиражной графике, напр. на гравюре с видом Троице-Сергиевой лавры 1725 г. И. Ф. Зубова (РНБ. См.: Ровинский . Народные картинки. Т. 2. Стб. 295; Троицкий собор ТСЛ. Серг. П., 2003. С. 38), на литографии «Святые и преподобные отцы, почивающие в Свято-Троицкой Сергиевой лавре» 1845 г. (СПГИАХМЗ) - справа за спиной прп. Никона, вместе с прп. Максимом Греком, с разведенными в стороны ладонями. По-видимому, образ Д. вводился в композиции Собора Московских чудотворцев, как предположительно (по др. версии, Дионисий, митр. Московский) на прориси ок. 1902 г. В. П. Гурьянова с иконы «Спас Смоленский с Московскими святыми» 2-й пол. XVII в. из старообрядческого молитвенного дома Преображенского кладбища в Москве (Маркелов . Святые Др. Руси. Т. 1. С. 340-341; Белоброва . 2005. С. 88).
В сер. XIX - нач. XX в. иконография Д. стала более разнообразной, появилась в академических произведениях, где подчеркивался патриотизм его служения. Так, круглая композиция 1851 г. худож. М. И. Скотти (СПГИАХМЗ, из ц. в честь иконы Божией Матери «Знамение» (Трифоновской) в Москве) воспроизводит напутствие Д. (изображен в профиль, с русой острой бородой, в черном клобуке, с указующим перстом и свитком) воину-защитнику, принимающему патриотическую грамоту. На сев. фасаде храма Христа Спасителя размещалась скульптурная композиция «Прп. Дионисий благословляет кн. Д. М. Пожарского и гражданина К. Минина на освобождение Москвы от поляков» сер. XIX в. работы А. В. Логановского, причем Д. был представлен в мантии со скрижалями и клобуке. Ростовой образ преподобного был включен также в роспись 70-х гг. XIX в. зап. части этого храма возле сюжета «Явление Божией Матери прп. Сергию», с др. стороны - прп. Максим Грек (Мостовский М . С . Храм Христа Спасителя / [Сост. заключ. ч. Б. Споров]. М., 1996п. С. 36, 84).
На ростовой иконе 2-й пол. XIX в. (частное собр.) с надписью: «С. Дионисий архимандр[ит] Тр[ои]це-Сергиев[ой] лавр[ы]» - он облачен в синюю фелонь и белый клобук с крестом, глаза наполнены слезами, десница простерта вверх, в левой руке посох и развернутый свиток. В монашеских одеждах Д. представлен в группе рус. подвижников XVII в. в стенописи галереи, ведущей в пещерную ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (живопись кон. 60-х - 70-х гг. XIX в. работы иеродиаконов Паисия и Анатолия, поновлена в 70-х гг. XX в.). По рисунку В. М. Васнецова 1911 г. выполнена литография «Прп. Дионисий диктует грамоту, призывающую православный народ на спасение Отечества» (СПГИАХМЗ) - Д. с развернутым свитком и четками в руках сидит во главе стола, иноки записывают его слова. В 1911-1914 гг. МАО объявило конкурс на проект скульптурного памятника сщмч. патриарху Ермогену и Д., к-рый предполагалось установить на Красной пл. в Москве (проекты скульптора Н. А. Андреева, ГТГ).
Неск. изображений Д. в традиц. иконописной стилистике было создано в 3-й четв. XX в. мон. Иулианией (Соколовой) - поясной прямоличный образ (ризница ТСЛ), икона «Радонежские чудотворцы» (фотография с иконы - Алдошина . 2001. С. 227), образ Д. (в числе Радонежских святых) введен в роспись 1955 г. старой братской трапезной лавры, в композицию «Все святые, в земле Русской просиявшие» кон. 20-х - нач. 30-х гг. XX в. (ризница ТСЛ) и ее повторения. На гробницу Д. положено его иконописное изображение (50-60-е гг. XX в.) в рост, со скрещенными на груди руками и Евангелием, глаза закрыты. Икона посл. четв. XX в. из ризницы ТСЛ (Игумен земли русской: Прп. Сергий Радонежский. Серг. П., 2005. С. 313) повторяет образ из иконостаса Никоновской ц. В росписи 70-х гг. XX в. в кельях Варваринского корпуса лавры Д. держит в руках большой развернутый свиток с обращением к правосл. христианам. На иконе нач. XXI в. письма иером. Филадельфа (Захарова) (ризница ТСЛ) Д. представлен в рост, с разведенными в стороны руками, вместе с др. архимандритом лавры - прп. Антонием (Медведевым).
Лит.: Некрасов И . С . О портретных изображениях рус. угодников в их житиях // СбОДИ на 1866 г. М., 1866. Отд. 2. С. 128; Ровинский . Словарь гравированных портретов. Т. 4. Стб. 129, 228, 236; Скворцов Д . И . Дионисий Зобниновский, архим. Троице-Сергиева мон-ря (ныне лавры). Тверь, 1890. С. 408; Покровский Н . В . Церковно-археол. музей СПбДА: 1879-1909. СПб., 1909. С. 130-131, № 52; Белоброва О . А . Портретные изображения Дионисия Зобниновского // Сообщ. Загорского гос. ист.-худож. музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып. 3. С. 175-180; То же // Белоброва О . А . Очерки рус. художественной культуры XVI-XX вв.: Сб. ст. / РАН, ИРЛИ (ПД). М., 2005. С. 86-92. Ил. 21-26; Макарий (Веретенников), архим . Первый образ в иконографии рус. святых // Он же . Рус. святость в истории, иконе и словесности: Очерки рус. агиологии. М., 1998. С. 83-84; Маркелов . Святые Др. Руси. Т. 1. С. 228-229, 340-341; Т. 2. С. 99-100; Алдошина Н . Е . Благословенный труд. М., 2001. С. 181, 227, 231-239.
Краткое житие преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского
Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий, уро-же-нец г. Рже-ва, млад-ший совре-мен-ник пер-во-го рус-ско-го пат-ри-ар-ха Иова, ро-дил-ся во вто-рой по-ло-вине XVI ве-ка. По-лу-чив мо-на-стыр-ское вос-пи-та-ние и ра-но остав-шись си-ро-той, Ди-о-ни-сий при-нял по-стриг и вско-ре был по-став-лен на-сто-я-те-лем Ста-риц-ко-го Успен-ско-го мо-на-сты-ря. Са-мо-зва-нец со-слал свя-ти-те-ля Иова в Ста-ри-цу. Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий встре-тил его с по-че-том, по-до-ба-ю-щим свя-ти-тель-ско-му са-ну.
В 1610 г. ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий стал на-сто-я-те-лем Тро-и-це-Сер-ги-е-вой Лав-ры. Это про-изо-шло в смут-ное вре-мя. Лав-ра бы-ла в оса-де. Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий воз-гла-вил ор-га-ни-за-цию обо-ро-ны. На-ря-ду с ке-ла-рем Лав-ры Ав-ра-ами-ем Па-ли-цы-ным пре-по-доб-ный стал ав-то-ром воз-зва-ний к рус-ско-му на-ро-ду, вско-лых-нув-ших осво-бо-ди-тель-ное дви-же-ние.
Ав-то-ри-тет Ди-о-ни-сия был очень ве-лик. Ему был по-лу-чен непро-стой труд по ис-прав-ле-нию бо-го-слу-жеб-ных книг. К несча-стью, бы-ли у пре-по-доб-но-го и вра-ги. Они вос-поль-зо-ва-лись воз-мож-но-стью об-ви-нить прп. Ди-о-ни-сия в ис-ка-же-нии пе-ре-во-дов бо-го-слу-же-ния (в част-но-сти, об-ря-да Кре-ще-ния). Пре-по-доб-ный был под-верг-нут аре-сту и пыт-кам. Од-на-ко он все ис-пы-та-ния сно-сил со сми-ре-ни-ем и стой-ко-стью. Лишь воз-вра-ще-ние из пле-на пат-ри-ар-ха Фила-ре-та и при-езд Иеру-са-лим-ско-го пат-ри-ар-ха поз-во-ли-ли пе-ре-смот-реть при-го-вор Ди-о-ни-сия. Ди-о-ни-сий был пол-но-стью оправ-дан. Скон-чал-ся прп. Ди-о-ни-сий 12 мая 1633 го-да. Вся его жизнь бы-ла об-раз-цом мо-на-ше-ско-го слу-же-ния.
Полное житие преподобного Дионисия, архимандрита Радонежского
Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий Ра-до-неж-ский ро-дил-ся в г. Рже-ве Твер-ской гу-бер-нии. Во Свя-том Кре-ще-нии ему бы-ло на-ре-че-но имя Да-вид. В Ка-шин-ском уез-де Твер-ской гу-бер-нии есть се-ло Зоб-ни-но; ве-ро-ят-но, ро-ди-те-ли пре-по-доб-но-го Фе-о-дор и Иули-а-ния про-ис-хо-ди-ли из это-го се-ла, от на-зва-ния ко-то-ро-го и по-лу-чи-ли свою фа-ми-лию - Зоб-ни-нов-ские. Еще во дни дет-ства Да-ви-да ро-ди-те-ли пе-ре-се-ли-лись в со-сед-ний го-род Ста-ри-цу, где отец при-нял ста-рей-шин-ство над ям-ской сло-бо-дой. Ино-ки оби-те-ли Ста-риц-кой Гу-рий и Гер-ман, нау-чив-шие гра-мо-те от-ро-ка, рас-ска-зы-ва-ли о доб-ро-де-тель-ном жи-тии его. С юных лет от-ли-чал-ся он доб-ро-той, кро-то-стью и лю-бо-вью к чте-нию свя-щен-ных книг, имел сми-ре-ние и про-сто-ту сер-деч-ную свы-ше обы-чая че-ло-ве-че-ско-го. Пре-небре-гая дет-ски-ми иг-ра-ми, в стра-хе Бо-жи-ем при-леж-но вни-мал уче-нию и со-блю-дал в серд-це сво-ем рев-ность к до-бро-де-те-лям. Его ду-хов-ный отец, по име-ни Гри-го-рий, ди-вил-ся его сми-ре-нию и креп-ко-му ра-зу-му, ибо внут-рен-ни-ми оча-ми про-зрел име-ю-щую в нем быть бла-го-дать Свя-та-го Ду-ха и не раз го-во-рил сво-им ду-хов-ным де-тям: «По-смот-ри-те, ча-да, на се-го сы-на мо-е-го по ду-ху, ко-то-рый и сам бу-дет ог-нем ду-хов-ным для мно-гих».
Мно-го тер-пел юный Да-вид оскорб-ле-ний от сверст-ни-ков ра-ди сво-е-го сми-ре-ния, да-же и са-мые уда-ры, как ино-гда слу-ча-лось от буй-ных де-тей, ко-то-рые до-са-до-ва-ли, что он не хо-чет раз-де-лить с ни-ми игр. Но он все пе-ре-но-сил с кро-то-стью и ста-рал-ся по воз-мож-но-сти от них укло-нять-ся, имея непре-стан-но в устах сво-их имя Бо-жие. Ко-гда на-учил-ся гра-мо-те и до-стиг со-вер-шен-но-го воз-рас-та, по-нуж-де-ни-ем ро-ди-те-лей, хо-тя и про-тив же-ла-ния, дол-жен был всту-пить в брак. За свое бла-го-че-стие был ра-но удо-сто-ен са-на свя-щен-ни-че-ско-го и опре-де-лен в цер-ковь Бо-го-яв-ле-ния в се-ле Ильин-ском, при-над-ле-жав-шем Ста-риц-кой оби-те-ли, за 12 верст от го-ро-да. Но через 6 лет скон-ча-лась же-на его Вас-са и двое сы-но-вей-ма-лю-ток Ва-си-лий и Кос-ма. То-гда уже он, сво-бод-ный от мир-ских за-бот, оста-вил дом свой, при-шел в Ста-ри-цу, при-нял мо-на-ше-ство с име-нем Ди-о-ни-сия в оби-те-ли Бо-го-ма-те-ри, под-ви-за-ясь о сво-ем спа-се-нии.
Го-ря-чо лю-бил Ди-о-ни-сий книж-ное уче-ние. И слу-чи-лось ему од-на-жды быть в Мос-кве для цер-ков-ной по-тре-бы. И во-шел он на торг, где про-да-ва-лись кни-ги. Некто из быв-ших на тор-гу, взи-рая на юность и бла-го-леп-ное ли-цо его, по-мыс-лил о нем лу-ка-вое и стал дер-зост-но оскорб-лять его сло-ва-ми, го-во-ря: «За-чем ты здесь, мо-нах?» Но не сму-тил-ся инок и не озло-би-лось серд-це его; воз-дох-нув из глу-би-ны ду-ши, крот-ко ска-зал оскор-би-те-лю. «Да, брат, я точ-но та-кой греш-ник, как ты ду-ма-ешь обо мне. Бог те-бе обо мне от-крыл, ибо ес-ли я был ис-тин-ный инок, то не ски-тал-ся бы по тор-жи-щу меж-ду мир-ски-ми людь-ми, а си-дел бы у се-бя в кел-лии. Про-сти ме-ня греш-на-го, Бо-га ра-ди». Уми-ли-лись пред-сто-яв-шие, вни-мая крот-ким и сми-рен-ным его ре-чам, и об-ра-ти-лись с него-до-ва-ни-ем на оскор-би-те-ля дерз-ко-го, на-зы-вая его невеж-дою. «Нет, бра-тия, - го-во-рил им инок Ди-о-ни-сий, - не он невеж-да, а я; он же по-слан мне от Бо-га на мое утвер-жде-ние и прав-ди-вы ре-чи его, чтобы впредь мне не ски-тать-ся по се-му тор-жи-щу, но си-деть в кел-лии». То-гда уж и сам оскор-би-тель усты-дил-ся и хо-тел про-сить про-ще-ния за свою дер-зость, но инок скрыл-ся. Это был пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий, то-гда каз-на-чей Ста-риц-ко-го Успен-ско-го мо-на-сты-ря. В 1605 го-ду по-свя-щен он был в ар-хи-манд-ри-ты Ста-риц-ко-го Успен-ско-го мо-на-сты-ря.
Вско-ре по вступ-ле-нии Ди-о-ни-сия в долж-ность на-сто-я-те-ля при-ве-зен был в Ста-риц-кую оби-тель низ-вер-жен-ный по во-ле пер-во-го са-мо-зван-ца пат-ри-арх Иов. Хо-тя Дио-ни-сию бы-ло при-ка-за-но со-дер-жать Иова как мож-но стро-же, «в озлоб-ле-нии скорб-ном», но свя-той с лю-бо-вью при-нял свер-жен-но-го пат-ри-ар-ха и стал во всем ис-пра-ши-вать у него на-став-ле-ний и при-ка-за-ний, ста-ра-ясь успо-ко-ить невин-но-го стра-даль-ца. Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий вме-сте с мит-ро-по-ли-том Кру-тиц-ким Па-ф-ну-ти-ем и Твер-ским ар-хи-епи-ско-пом Фео-к-ти-стом по-хо-ро-нил его в сво-ей оби-те-ли в 1607 го-ду.
Ду-хов-ное об-ще-ние ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия со свя-тей-шим пат-ри-ар-хом Иовом, мож-но пред-по-ла-гать, бы-ло ви-ною и бла-го-склон-но-го к пре-по-доб-но-му рас-по-ло-же-ния свя-тей-ше-го пат-ри-ар-ха . На него ча-сто ука-зы-вал пат-ри-арх, ди-вясь его ра-зу-му: «По-смот-ри-те на ар-хи-манд-ри-та Ста-риц-ко-го, как он под-ви-за-ет-ся; ни-ко-гда он от со-бор-ной церк-ви не от-лу-ча-ет-ся, и на цар-ских со-бра-ни-ях он же все-гда тут». И в смут-ное вре-мя пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий был бли-жай-шим по-мощ-ни-ком свя-ти-те-ля Ер-мо-ге-на, неот-луч-но на-хо-дясь при нем, да и царь имел в Ди-о-ни-сии од-но-го из рев-ност-ных за-щит-ни-ков пре-сто-ла.
Од-на-жды при-вер-жен-цы ли-тов-ские и мос-ков-ские зло-деи, схва-тив свя-тей-ше-го пат-ри-ар-ха Ер-мо-ге-на, со вся-ки-ми ру-га-тель-ства-ми по-влек-ли его на лоб-ное ме-сто; од-ни тол-ка-ли его, дру-гие бро-са-ли пес-ком в ли-цо и на чест-ную гла-ву, иные же, схва-тив за пер-си, дерз-но-вен-но по-тря-са-ли, и ко-гда все про-чие тре-пе-та-ли, один лишь Ди-о-ни-сий в та-кой бе-де ни на шаг не от-сту-пал от пат-ри-ар-ха, но стра-дал вме-сте с ним и всех с горь-ки-ми сле-за-ми уве-ще-вал, чтобы пе-ре-ста-ли от та-ко-го дерз-ко-го бес-чин-ства, как о том за-сви-де-тель-ство-ва-ли мно-гие из са-мо-вид-цев.
В 1610 го-ду пат-ри-арх Ер-мо-ген пе-ре-вел ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия на ме-сто на-стоя-те-ля Тро-иц-кой Лав-ры, ко-то-рая еще не опра-ви-лась по-сле оса-ды по-ля-ков и нуж-да-лась в хо-ро-шем бла-го-устро-и-те-ле.
Ве-ли-ко и силь-но бы-ло имя пре-по-доб-но-го Сер-гия в то вре-мя. Его ува-жа-ли и бо-я-лись са-мые вра-ги оте-че-ства, по-ля-ки и вся-ко-го ро-да во-ры. И ес-ли, бы-ва-ло, ко-го эти недоб-рые лю-ди оста-но-вят в до-ро-ге и он ска-жет-ся Сер-ги-е-вым, то-го про-пус-ка-ли без вре-да. Слу-чи-лось пре-по-доб-но-му Ди-о-ни-сию воз-вра-щать-ся из Яро-слав-ля с од-ним бо-яри-ном. До-ро-га же бы-ла то-гда опас-ная, и мно-го про-ли-ва-лось кро-ви от вар-вар-ских лю-дей. По-се-му ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий сго-во-рил-ся с сво-и-ми спут-ни-ка-ми на-зы-вать-ся Сер-ги-е-вы-ми. «Ес-ли, - го-во-рил он, - по-едем мы до-ро-гою про-сто, та огра-бят нас во-ров-ские лю-ди и да-же убьют; а ес-ли бу-дем на-зы-вать-ся име-нем чу-до-твор-ца Сер-гия, то спа-сем-ся». Не знал он еще, что он уже, дей-стви-тель-но, стал «Сер-ги-е-вым», ибо был на-зна-чен в оби-тель чу-до-твор-ца в на-сто-я-те-ли. Так про-еха-ли они мно-гие опас-ные ме-ста. Не до-ез-жая Лав-ры, встре-тил их слу-жи-тель Тро-иц-кий и спро-сил: «Ка-кая власть едет?» Они от-ве-ча-ли: «Тро-и-це-Сер-ги-е-ва мо-на-сты-ря стар-цы, едем из мо-на-стыр-ских сел». Но тот, зная всех сво-их стар-цев, не по-ве-рил и спро-сил: «Не Ста-риц-кий ли это ар-хи-манд-рит, к ко-то-ро-му я по-слан с гра-мо-та-ми от са-мо-держ-ца и пат-ри-ар-ха?». И вру-чил Ди-о-ни-сию гра-мо-ты, из ко-их пре-по-доб-ный узнал о сво-ем но-вом на-зна-че-нии и по-спе-шил в Моск-ву. Изу-мил-ся судь-бам Бо-жи-им пре-по-доб-ный Дио-ни-сий и про-лил обиль-ные сле-зы: ибо ему и на мысль не при-хо-ди-ло то, что по во-ле Бо-жи-ей при-шло на серд-це свя-тей-ше-му пат-ри-ар-ху и бла-го-вер-но-му ца-рю. И это был, мож-но ска-зать, по-след-ний дра-го-цен-ный дар их, ко-то-рым обла-го-де-тель-ство-ва-ли они Рос-сию, по-ста-вив из-бран-но-го от лю-дей Бо-жи-их на та-кую сту-пень, с вы-со-ты ко-ей мог за-щи-щать зем-ную свою ро-ди-ну в тяж-кую го-ди-ну ее бед-ствий.
Воз-дав бла-го-да-ре-ние ца-рю и свя-ти-те-лю за их из-бра-ние, Ди-о-ни-сий по-спе-шил воз-вра-тить-ся в Лав-ру Сер-ги-е-ву, толь-ко что осво-бо-див-шу-ю-ся от оса-ды ли-тов-ской и про-слав-лен-ную сим бес-смерт-ным по-дви-гом. Его са-мо-го ожи-дал ве-ли-кий по-двиг со-дей-ство-вать вме-сте с рев-ност-ным ке-ла-рем Ав-ра-ами-ем Па-ли-цы-ным осво-бож-де-нию уже не од-ной Лав-ры, но все-го цар-ства, и два-дцать три го-да под-ви-зал-ся он о спа-се-нии сво-е-го ста-да в непре-стан-ной мо-лит-ве и по-ще-нии.
Ужас-ное и тяж-кое то бы-ло вре-мя для Рус-ской зем-ли - вре-мя, ко-то-рое рус-ский на-род в сво-ей па-мя-ти про-звал «ли-хо-ле-тьем». Москва бы-ла в ру-ках по-ля-ков. На-род стра-дал от звер-ства поль-ских и ка-зац-ких ша-ек. Тол-пы рус-ских лю-дей обо-е-го по-ла, на-гие, бо-сые, из-му-чен-ные, бе-жа-ли к Тро-иц-кой оби-те-ли, как к един-ствен-ной, вы-дер-жав-шей на-пор вра-гов, на-деж-ной за-щи-те. Од-ни из них бы-ли изуро-до-ва-ны ог-нем, у иных вы-рва-ны на го-ло-ве во-ло-сы; мно-же-ство ка-лек ва-ля-лось по до-ро-гам; у тех бы-ли вы-ре-за-ны рем-ни ко-жи на спине, у дру-гих от-се-че-ны ру-ки и но-ги, у иных бы-ли сле-ды ожо-гов на те-ле от рас-ка-лен-ных кам-ней. Все-ми пу-тя-ми стре-ми-лись бег-ле-цы к до-му Жи-во-на-чаль-ной Тро-и-цы, и не бы-ло чис-ла сле-зам; из-му-чен-ные, из-ло-ман-ные про-си-ли от-цов ду-хов-ных. Вся оби-тель Свя-той Тро-и-цы пре-ис-пол-ни-лась уми-рав-ши-ми от на-го-ты, гла-да и ран; не толь-ко по мо-на-сты-рю ле-жа-ли они, но и в сло-бо-дах, и в де-рев-нях, и по до-ро-гам, так что невоз-мож-но бы-ло всех ис-по-ве-дать и при-об-щить Свя-тых Та-ин.
Ви-дя сие, ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий ре-шил-ся упо-тре-бить на доб-рое де-ло всю мо-на-стыр-скую каз-ну. Со сле-за-ми мо-лил он ке-ла-ря, и каз-на-чея, и всю бра-тию, чтобы со-бо-лез-но-ва-ли и со-стра-да-ли несчаст-ным во всех их нуж-дах. «Лю-бовь хри-сти-ан-ская, - го-во-рил он, - во вся-кое вре-мя по-мо-га-ет нуж-да-ю-щим-ся, тем бо-лее на-доб-но по-мо-гать в та-кое тяж-кое вре-мя». Ке-ларь и бра-тия со слу-га-ми от-ве-ча-ли с гру-стью без-на-деж-но: «Кто, отец ар-хи-манд-рит, в та-кой бе-де с ра-зу-мом со-бе-рет-ся? Ни-ко-му тут невоз-мож-но про-мыс-лить, кро-ме Еди-но-го Бо-га». Но Ди-о-ни-сий со мно-гим ры-да-ни-ем опять го-во-рил: «В та-ких-то ис-ку-ше-ни-ях и нуж-на твер-дость. От оса-ды боль-шой Бог из-ба-вил нас мо-лит-ва-ми Вла-ды-чи-цы на-шей и ве-ли-ких чу-до-твор-цев, а ныне за ле-ность на-шу и за ску-пость мо-жет нас и без оса-ды сми-рить и оскор-бить». Уми-ли-лись от пла-ча его ке-ларь, и бра-тия, и слу-ги и ста-ли про-сить со-ве-та в сво-ем недо-уме-нии. Ди-о-ни-сий так на-чал мо-лить всех: «По-ка-жи-те в этом ми-лость свою, го-су-да-ри мои, ке-ларь и каз-на-чей, и вся бра-тия свя-тая! По-жа-луй-те, ме-ня по-слу-шай-те: ви-де-ли все, что Москва в оса-де, а лю-ди ли-тов-ские во всю зем-лю рас-сы-па-лись, у нас же в мо-на-сты-ре лю-дей хо-тя и мно-го, но ма-ло рат-ных и уме-ю-щих, и те по-ги-ба-ют от цин-ги, от го-ло-да и от ран; мы, го-су-да-ри, обе-ща-ли в ино-че-стве уме-реть, уме-реть, а не жить. Ес-ли в та-ких бе-дах не бу-дет у нас рат-ных лю-дей, то что бу-дет? Итак, что у нас есть хлеб ржа-ной и пше-ни-ца и ква-сы в по-гре-бе, все от-да-дим, бра-тии, ра-не-ным лю-дям, а са-ми бу-дем есть хлеб ов-ся-ный, без ква-са, с од-ной во-дой, и не умрем. Пусть каж-дый де-ла-ет все, что мо-жет, для дру-гих, а дом Свя-той Тро-и-цы и ве-ли-ких чу-до-твор-цев не за-пу-сте-ет, ес-ли толь-ко ста-нем мо-лить Гос-по-да на-ше-го, чтобы по-дал нам ра-зум». При-я-тен был всем со-вет сей и тверд, слез его ра-ди.
И вот за-ки-пе-ла де-я-тель-ность. Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий по-сы-лал мо-на-хов и мо-на-стыр-ских слуг под-би-рать несчаст-ных по окрест-но-стям, при-во-зить в мо-на-стырь и ле-чить. Преж-де все-го, по бла-го-сло-ве-нию ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия, на-ча-ли мо-на-стыр-ской каз-ной стро-ить до-ма де-ре-вян-ные для бо-ля-щих и бес-при-ют-ных, и на-шлись для них вра-чи. И по-ве-ле-но бы-ло рат-ных лю-дей ле-чить и успо-ка-и-вать их луч-шей доб-рой пи-щей брат-ской. В то вре-мя мо-лит-ва-ми Ди-о-ни-сия бы-ло умно-же-ние му-ки в хлебне ра-ди ве-ли-ко-го чу-до-твор-ца Сер-гия. Во все сие вре-мя не пла-кал, не про-сил се-бе ми-ло-сти у се-го ве-ли-ко-го све-тиль-ни-ка; все со сми-рен-но-муд-ри-ем вку-ша-ли толь-ко немно-го ов-ся-но-го хле-ба, и то од-на-жды в день, а в сре-ду и пя-ток во-все ни-че-го не ели.
«Я и сам, греш-ный, - пи-шет со-бор-ный клю-чарь Иоанн, - сколь-ко на па-мя-ти мо-ей по-стри-гал, при-ча-щал и по-гре-бал вме-сте с бра-том мо-им Си-мо-ном: до че-ты-рех ты-сяч по-греб-ли мы мерт-ве-цов и, как те-перь пом-ню, что в один день по-хо-ро-ни-ли в сру-бе на Кле-мен-тье-ве, у Ни-ко-лы Чу-до-твор-ца, 960 че-ло-век, да в дру-гом убо-гом до-ме - 640, и на Те-рен-тье-вой ро-ще - 450. Со свя-щен-ни-ком Иоан-ном хо-ди-ли мы по окрест-ным сло-бо-дам и, по во-ле Ди-о-ни-си-е-вой, со-счи-та-ли, что в 30 недель по-греб-ли бо-лее трех ты-сяч, да зи-мою и вес-ною по-гре-бал я вся-кий день тех, ко-то-рые не хо-те-ли быть по-ло-же-ны в убо-гих до-мах, и еже-днев-но слу-ча-лось до ше-сти и бо-лее по-хо-рон, а в од-ной мо-ги-ле ни-ко-гда не кла-ли по од-но-му че-ло-ве-ку, но не ме-нее трех, а ино-гда и до пят-на-дца-ти; все сии бе-ды про-дол-жа-лись пол-то-ра го-да».
По бла-го-сло-ве-нию св. Ди-о-ни-сия, как ско-ро об-ре-та-ли об-на-жен-но-го мерт-ве-ца, тот-час по-сы-ла-лось все нуж-ное для по-гре-бе-ния; при-ста-вы ез-ди-ли на ко-нях по ле-сам смот-реть, чтобы зве-ри не съе-ли за-му-чен-ных от вра-гов, и ес-ли еще кто был жив, при-во-зи-ли в стран-но-при-им-ни-цы, а ко-то-рые уми-ра-ли, тех ху-дые одеж-ды раз-да-ва-ли бед-ным: жен-щи-ны ши-ли и мы-ли бес-пре-стан-но ру-баш-ки и са-ва-ны, за что их до-воль-ство-ва-ли из мо-на-сты-ря одеж-дой и пи-щей. Ке-лей-ник Ди-о-ни-сия ста-рец До-ро-фей днем и но-чью раз-но-сил от него боль-ным и ра-не-ным по-ло-тен-ца и день-ги. Та-кое по-со-бие Лав-ра ока-зы-ва-ла страж-ду-щим все вре-мя, по-ка Москва бо-ро-лась с по-ля-ка-ми. Ке-ларь Си-мон по-ла-га-ет, что за это вре-мя од-них умер-ших бы-ло бо-лее 7 000 и до 500 остав-ших-ся при Лав-ре в раз-ных служ-бах: мож-но по это-му су-дить, как ве-ли-ко бы-ло чис-ло всех, вос-поль-зо-вав-ших-ся по-со-би-я-ми от оби-те-ли.
Ес-ли пра-вед-ным су-дом Гос-подь и на-ка-зал нас во вре-мя оса-ды, за-ме-ча-ет пи-са-тель жи-тия, то не обо-га-тил ли нас по-том су-гу-бо Сво-ею бла-го-да-тью, как это ви-ди-мо ныне всем че-ло-ве-кам. Сколь-ки-ми бо-гат-ства-ми рас-ши-рил Он и укра-сил се-ле-ние сла-вы Сво-ей, оби-тель Пре-свя-той Тро-и-цы, мо-лит-ва-ми ве-ли-ко-го чу-до-твор-ца Сер-гия. Гос-подь вос-ста-вил, как неко-гда Иоси-фа на про-корм-ле-ние Егип-та и То-вию пра-вед-но-го в Ва-ви-лоне, се-го див-но-го му-жа Ди-о-ни-сия, через ко-то-ро-го мно-гие спо-до-би-лись по-лу-чить бла-гой ко-нец с на-пут-стви-ем.
Но это-го бы-ло ма-ло для свя-той ду-ши Ди-о-ни-сия: его лю-бя-щее серд-це то-ми-лось стра-да-ни-я-ми всей Рус-ской зем-ли. Ве-ли-кий имел он по-двиг, усерд-но мо-лясь о из-бав-ле-нии цар-ству-ю-ще-го гра-да; во все пол-то-ра го-да, ко-гда бы-ла в оса-де Москва, непре-стан-но и в церк-ви Бо-жи-ей, и в кел-лии с ве-ли-ким пла-чем сто-ял он на мо-лит-ве. И в 1611-1612 гг. в кел-лии ар-хи-манд-ри-та со-би-ра-ют-ся ско-ро-пис-цы и пе-ре-пи-сы-ва-ют по-сла-ния Ди-о-ни-сия и его ке-ла-ря Ав-ра-амия Па-ли-цы-на. Гра-мо-ты сии в Ря-зань, в Пермь с уез-да-ми, и в Яро-славль, и в Ниж-ний Нов-го-род, кня-зю Ди-мит-рию По-жар-ско-му и Кось-ме Ми-ни-ну, и в по-ни-зов-ские го-ро-да, кня-зю Ди-мит-рию Тру-бец-ко-му и к За-руц-ко-му под Моск-ву, и в Ка-зань к стро-и-те-лю Ам-фи-ло-хию, и мно-го бы-ло в тех гра-мо-тах бо-лез-но-ва-ния Ди-о-ни-си-е-ва о всем го-су-дар-стве Мос-ков-ском. «Пра-во-слав-ные хри-сти-ане, - пи-са-лось в этих по-сла-ни-ях сми-рен-ны-ми ино-ка-ми, доб-лест-ны-ми сы-на-ми оте-че-ства, при-зы-ва-ю-щи-ми рус-ский на-род к брат-ско-му еди-но-ду-шию и к за-щи-те разо-ря-е-мой вра-га-ми род-ной зем-ли, - вспом-ни-те ис-тин-ную пра-во-слав-ную ве-ру и по-ка-жи-те по-двиг свой, мо-ли-те слу-жи-лых лю-дей, чтобы быть всем пра-во-слав-ным в со-еди-не-нии и стать со-об-ща про-тив пре-да-те-лей хри-сти-ан-ских (из-мен-ни-ков оте-че-ству) и про-тив веч-ных вра-гов хри-сти-ан-ства - поль-ских и ли-тов-ских лю-дей! Са-ми ви-ди-те, ка-кое ра-зо-ре-ние учи-ни-ли они в Мос-ков-ском го-су-дар-стве. Где свя-тые церк-ви Бо-жии и Бо-жии об-ра-зы? Где ино-ки, се-ди-на-ми цве-ту-щие, ино-ки-ни, доб-ро-де-те-ля-ми укра-шен-ные? Не все ли до кон-ца ра-зо-ре-но и по-ру-га-но злым по-ру-га-ни-ем? Не по-ща-же-ны ни стар-цы, ни мла-ден-цы груд-ные... Ес-ли же есть и недо-воль-ные в ва-ших пре-де-лах, то Бо-га ра-ди от-ло-жи-те все сие на вре-мя, чтобы вам всем еди-но-душ-но по-стра-дать для из-бав-ле-ния пра-во-слав-ной ве-ры, по-ка-мест еще вра-ги не на-нес-ли ка-ко-го-ли-бо уда-ра бо-ярам и во-е-во-дам. Ес-ли мы при-бег-нем к Пре-щед-ро-му Бо-гу и Пре-чи-стой Бо-го-ро-ди-це и ко всем свя-тым и обе-ща-ем-ся со-об-ща со-тво-рить наш по-двиг, то Ми-ло-сти-вый Вла-ды-ка, Че-ло-ве-ко-лю-бец, от-вра-тит пра-вед-ный Свой гнев и из-ба-вит нас от лю-той смер-ти и ла-тин-ско-го по-ра-бо-ще-ния. Сми-луй-тесь и мо-ли-тесь! Но немед-ля со-тво-ри-те де-ло из-бав-ле-ния хри-сти-ан-ско-го на-ро-да, по-мо-ги-те рат-ным лю-дям. Мно-го и слез-но со всем на-ро-дом хри-сти-ан-ским вам о том че-лом бьем».
С та-ки-ми воз-зва-ни-я-ми спе-ши-ли из Лав-ры гон-цы в раз-ные го-ро-да и пол-ки Рос-сии. Тро-иц-кие гра-мо-ты обод-ри-ли на-род: осо-бен-но силь-но бы-ло во-оду-шев-ле-ние в Ниж-нем Нов-го-ро-де. Здесь вос-стал на за-щи-ту род-ной зем-ли прис-но-па-мят-ный муж Кос-ма Ми-нин. По его при-зы-ву со-бра-лось опол-че-ние и под на-чаль-ством кня-зя По-жар-ско-го дви-ну-лось на за-щи-ту оса-жден-ной Москве. Услы-шал Гос-подь мо-лит-ву пра-вед-ни-ка, ден-но и нощ-но к Нему взы-вав-ше-го, о из-бав-ле-нии пра-во-слав-ных хри-сти-ан от кро-во-про-лит-ных на-па-стей, о ми-ре и ти-шине Мос-ков-ско-му го-су-дар-ству. Ко-гда князь Ди-мит-рий По-жар-ский и Кос-ма Ми-нин дви-ну-лись к Москве со мно-гим во-ин-ством и до-стиг-ли Сер-ги-е-вой оби-те-ли, сей ве-ли-кий по-движ-ник, со-вер-шив для них мо-леб-ное пе-ние, про-во-жал всем со-бо-ром во-е-вод и рат-ных лю-дей на го-ру, на-зы-ва-е-мую Вол-ку-ша, и там оста-но-вил-ся с кре-стом в ру-ках, чтобы осе-нить их, свя-щен-ни-ки же кро-пи-ли свя-той во-дой. В то вре-мя силь-ный ве-тер дул на-встре-чу во-и-нам, и сму-ща-лось их серд-це от вол-не-ния; тре-во-жи-лись и во-е-во-ды, как ид-ти в дол-гий путь при столь бур-ном вет-ре? Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий, бла-го-слов-ляя во-ин-ства, об-на-де-жи-вал рат-ных, вну-шая им при-зы-вать се-бе на по-мощь Гос-по-да, Пре-чи-стую Его Ма-терь и ра-до-неж-ских свя-тых Сер-гия и Ни-ко-на. Еще и вслед за ни-ми осе-нял он иду-щих Жи-во-тво-ря-щим Кре-стом, и - вне-зап-ное со-вер-ши-лось чу-до: мгно-вен-но из-ме-нил-ся ве-тер и стал по-пут-ным пра-во-слав-но-му во-ин-ству от са-мой оби-те-ли, как бы от церк-ви Свя-той Тро-и-цы и чу-до-твор-ных мо-щей, по-се-му нема-лое бы-ло ра-до-ва-ние во-е-во-дам и вой-ску. Вы-со-кая сту-пень ино-че-ско-го по-дви-га, до-стиг-ну-тая пре-по-доб-ным через непре-стан-ную мо-лит-ву, со-об-щи-ла ему та-кой дар чу-до-тво-ре-ний, тща-тель-но им хра-ни-мый от лю-дей.
Ска-за-ние же сие, го-во-рит пи-са-тель жи-тия, слы-ша-ли мы из уст са-мо-го кня-зя Ди-мит-рия, ко-то-рый со мно-ги-ми сле-за-ми ис-по-ве-дал нам, ка-ко-го чу-да спо-до-бил его Бог за-ступ-ле-ни-ем Пре-чи-стой и ве-ли-ких чу-до-твор-цев и мо-лит-ва-ми свя-то-го ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия! На него из-лил Гос-подь бла-го-дать Свою ра-ди креп-ко-го его жи-тия, и щед-ро по-да-ва-ла ему чуд-ная дес-ни-ца Бо-жия то, че-го со сле-за-ми мо-лил у Гос-по-да див-ный Его угод-ник. Од-ни толь-ко непре-стан-ные мо-лит-вы Ди-о-ни-сия мог-ли за-ста-вить кня-зя пре-не-бречь всей опас-но-стью, ка-кая угро-жа-ла им в стране от смут и за-го-во-ров, и дви-нуть-ся спер-ва из Яро-слав-ля, а по-том из-под Лав-ры для до-вер-ше-ния ве-ли-ко-го де-ла. Ке-ларь Ав-ра-амий был от-пу-щен ар-хи-манд-ри-том и на-хо-дил-ся без-от-луч-но при вой-сках, ли-цом, дей-ству-ю-щим не ме-нее кня-зя Ди-мит-рия По-жар-ско-го и Ми-ни-на. Его ода-рен-ное пе-ро пе-ре-да-ло потом-ству совре-мен-ные по-дви-ги, по-доб-но как его муд-рые ре-чи вос-ста-нов-ля-ли мир и ти-ши-ну по-сре-ди враж-ду-ю-ще-го ста-на.
Немир-ны бы-ли меж-ду со-бой со-еди-нив-ши-е-ся под Моск-вой По-жар-ский и Тру-бец-кой, но пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий пи-сал им сер-деч-ное крас-но-ре-чи-вое уве-ща-ние о ми-ре и люб-ви.
Еще дли-лась оса-да: по-ля-ки за-се-ли в Крем-ле и Ки-тай-го-ро-де, и сно-ва воз-ник-ли воз-му-ще-ния меж-ду ка-за-ка-ми. Жа-ло-ва-лись они на ни-ще-ту свою и бо-гат-ство во-ждей, они хо-те-ли умерт-вить их и раз-бе-жать-ся. Что же ар-хи-манд-рит и ке-ларь? По-след-нее со-кро-ви-ще Лав-ры - ри-зы и сти-ха-ри, са-же-ные жем-чу-гом, по-сы-ла-ют они в та-бор с слез-ным мо-ле-ни-ем не по-ки-дать Оте-че-ство. И тро-ну-лись ка-за-ки, во-шли в ра-зум и страх Бо-жий и, воз-вра-тив оби-те-ли ее по-жерт-во-ва-ния, по-кля-лись пе-ре-но-сить ли-ше-ния. Ско-ро пре-по-доб-ный Сер-гий явил-ся во сне гре-че-ско-му ар-хи-епи-ско-пу Ар-се-нию, за-клю-чен-но-му в Крем-ле, и уте-шил его ве-стью о из-бав-ле-нии. При-сту-пом был взят Ки-тай-го-род, сдал-ся Кремль. С Бо-жи-ей по-мо-щью сто-ли-ца бы-ла очи-ще-на от вра-гов. С тор-же-ствен-ным пе-ни-ем всту-пил прп. Ди-о-ни-сий и весь свя-щен-ный со-бор в храм Успе-ния и вос-пла-кал при ви-де за-пу-сте-ния свя-ты-ни. Оба, ар-хи-манд-рит и ке-ларь, бы-ли при из-бра-нии Ми-ха-и-ла, ко-то-рое со-вер-ши-лось в Москве в их Тро-иц-ком по-дво-рье. Ав-ра-амий воз-ве-стил о том на-ро-ду с Лоб-но-го ме-ста и сам в чис-ле по-слов по-чет-ных хо-дил при-гла-шать юно-шу на цар-ство. Он умо-лял его про-ме-нять ти-ши-ну оби-те-ли Ипать-ев-ской на бур-ный пре-стол, ко-леб-ле-мый все-ми ужа-са-ми вой-ны и внут-рен-них смя-те-ний. Ко-гда же, по мно-гом пла-че, умо-лен был юный царь, то на пу-ти сво-ем к сто-ли-це усерд-но при-па-дал к ра-ке пре-по-доб-но-го Сер-гия, и ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий бла-го-сло-вил Ми-ха-и-ла на спа-сен-ное цар-ство.
Сре-ди этих за-бот и тру-дов для спа-се-ния оте-че-ства Ди-о-ни-сий успел по-пра-вить и вве-рен-ную ему Лав-ру. Ее баш-ни и сте-ны по-сле оса-ды бы-ли по-лу-раз-ру-ше-ны; уцелев-шие от ог-ня кел-лии сто-я-ли по-чти без кры-ши; име-ния ра-зо-ре-ны, и ра-бо-чие раз-бе-жа-лись. По хо-да-тай-ству Ди-о-ни-сия царь под-твер-дил пра-ва Лав-ры гра-мо-та-ми и по-ве-лел воз-вра-тить на свои ме-ста раз-бе-жав-ших-ся кре-стьян. Де-я-тель-но-стью на-сто-я-те-ля ма-ло-по-ма-лу из-гла-жда-лись сле-ды ра-зо-ре-ния в оби-те-ли.
Еще не со-всем окон-чи-лись на-ча-тые по-прав-ки хо-зяй-ства по оби-те-ли, как пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий дол-жен был на-чать по-дви-ги для свя-той ве-ры. Ка-за-лось, по-сле столь ве-ли-ких за-слуг пре-по-доб-но-го для оте-че-ства и Лав-ры на-сту-пи-ло для него вре-мя от-ды-ха и успо-ко-е-ния. Не то су-дил Бог. Царь Ми-ха-ил Фе-о-до-ро-вич, зная бла-го-че-стие и уче-ность Ди-о-ни-сия, по-ру-чил ему гра-мо-той от 8 но-яб-ря 1616 го-да ис-пра-вить Треб-ник от гру-бых оши-бок, ко-то-рые вкра-лись от вре-ме-ни. Ди-о-ни-сий и его со-труд-ни-ки, ста-рец Ар-се-ний и свя-щен-ник Иоанн, с усер-ди-ем и бла-го-ра-зу-ми-ем за-ня-лись этим де-лом; для по-со-бия, кро-ме мно-гих древ-них сла-вян-ских треб-ни-ков, в чис-ле ко-их был и треб-ник мит-ро-по-ли-та Ки-при-а-на, бы-ли и гре-че-ские треб-ни-ки. Оши-бок най-де-но мно-же-ство, и иные крайне гру-бые: «О во-пло-ще-нии Сы-на Бо-жия в по-треб-ни-ках пись-мен-ных и в слу-жеб-ни-ках вы-хо-да пер-вых пе-ча-тей об-ре-ло-ся, яко Отец Бог с Сы-ном во-пло-ти-ся». Через пол-то-ра го-да пред-ста-ви-ли ис-прав-лен-ный ими треб-ник в Моск-ву на рас-смот-ре-ние Со-бо-ра. Со-бор 1618 го-да по на-ве-там вра-гов пре-по-доб-но-го без ви-ны осу-дил его, как ере-ти-ка, на ли-ше-ние са-на и за-то-че-ние. Ди-о-ни-сия об-ви-ня-ли и в том, что «имя Свя-той Тро-и-цы ве-лел в кни-гах ма-рать и Ду-ха Свя-та-го не ис-по-ве-ду-ет, яко огнь есть». Это озна-ча-ло, что ис-пра-ви-те-ли по-ла-га-ли сде-лать пе-ре-ме-ны в сла-во-сло-ви-ях Свя-той Тро-и-це, окан-чи-ва-ю-щих со-бой раз-ные мо-лит-вы, а в чине во-до-освя-ще-ния ис-клю-ча-ли сло-во: «и ог-нем» как вне-сен-ное про-из-во-лом неве-же-ства. В за-щи-ти-тель-ной ре-чи прп. Ди-о-ни-сий ска-зал: «Пи-са-но во всех треб-ни-ках пись-мен-ных ста-рых, в том чис-ле и пер-га-мен-ных, в мо-лит-ве: Тво-ею бо во-лею от небы-тия в бы-тие при-вел еси вся-че-ская. Ты и ныне, Вла-ды-ко, освя-ти во-ду сию Ду-хом Тво-им Свя-тым. Так сто-ят сло-ва в пер-га-мен-ных и в бу-маж-ных спис-ках и в них нет сло-ва: и ог-нем. Так и в спис-ках, при-слан-ных из Моск-вы, - в кни-ге мит-ро-по-ли-та Ки-при-а-на (а Ки-при-ан мит-ро-по-лит - че-ло-век свя-той, как все зна-ют) и в двух дру-гих спис-ках! Так и в гре-че-ских кни-гах! Но не так в Мос-ков-ском пе-чат-ном слу-жеб-ни-ке, где на-пе-ча-та-но: Ду-хом Тво-им Свя-тым и ог-нем. Мы не зна-ем, с че-го на-пе-ча-та-но: и ог-нем. Мы ду-ма-ли, что на-пе-ча-та-но так со-об-раз-но с сло-ва-ми еван-ге-ли-ста Лу-ки: Той вы кре-стит Ду-хом Свя-тым и ог-нем. Но зная, что еван-ге-ли-сты Марк и Мат-фей не ска-за-ли: и ог-нем, а толь-ко - Ду-хом, при-ня-ли в ос-но-ва-ние сло-ва Гос-по-да к Ни-ко-ди-му: аще кто не ро-дит-ся во-дою и Ду-хом, не мо-жет вни-ти в Цар-ствие Небес-ное. Сам еван-ге-лист Лу-ка, пред-ла-гая обе-то-ва-ние Гос-по-да, пи-шет: има-те кре-сти-ти-ся Ду-хом Свя-тым, но не ска-зал: и ог-нем. По кни-ге Де-я-ний Апо-столь-ских, в день Пя-ти-де-сят-ни-цы снис-шел Дух Свя-той на апо-сто-лов и яви-ша-ся им раз-де-ле-ни язы-цы яко ог-нен-ни; не ска-за-но: яви-лись язы-ки ог-нен-ные, но яко ог-нен-ни. Да и кни-га Де-я-ний не опре-де-ля-ет, в ка-ком ви-де снис-хо-дил Дух Свя-той на кре-ща-ю-щих-ся. Кре-ще-ни-ем же ог-нен-ным озна-ча-ет-ся толь-ко ис-пы-та-ние ог-нен-ное». Весь-ма лю-бо-пыт-но и по-учи-тель-но, что го-во-рил Ар-се-ний о при-бав-ке сло-ва «и ог-нем» в чине Кре-ще-ния. Из чис-ла 12-ти сла-вян-ских спис-ков, пи-сал он, в 10 не бы-ло это-го сло-ва; в од-ном при-пи-са-но на по-ле «и ог-нем», и в дру-гом то же сло-во на-пи-са-но вы-ше стро-ки; в пе-чат-ном же треб-ни-ке это сло-во по-став-ле-но уже в стро-ке. Вот про-ис-хож-де-ние при-бав-ле-ний, за ко-то-рые так упор-но сто-ят рев-ни-те-ли мни-мой ста-ри-ны! Прп. Ди-о-ни-сию при-шлось вы-тер-петь мно-го и мно-го оскорб-ле-ний неза-слу-жен-ных.
Но по всей зем-ле Рус-ской еще бро-ди-ли шай-ки ли-тов-цев и по-ля-ков, так что Ди-о-ни-сий не мог до-стиг-нуть ме-ста за-то-че-ния, а по-то-му его воз-вра-ти-ли в Моск-ву, зак-лю-чи-ли в Но-воспас-ский мо-на-стырь, мо-ри-ли го-ло-дом, то-ми-ли в ды-му ба-ни, за-став-ля-ли класть каж-дый день по ты-ся-чу по-кло-нов. Пре-по-доб-ный, укреп-ля-е-мый Гос-по-дом, не толь-ко вы-пол-нял на-ло-жен-ную эпи-ти-мию, но еще от усер-дия сво-е-го клал дру-гую ты-ся-чу по-кло-нов еже-днев-но. По празд-ни-кам его во-ди-ли, а ино-гда во-зи-ли вер-хом на кля-че, еще до обед-ни, к мит-ро-по-ли-ту на сми-ре-ние. Здесь в око-вах он сто-ял на от-кры-том дво-ре в лет-ний зной до ве-чер-ни, не осве-жа-е-мый и ча-шей сту-де-ной во-ды.
А гру-бые злоб-ные невеж-ды вся-че-ски ру-га-лись над ним, бро-са-ли в него гря-зью. Но пре-по-доб-ный был, как мла-де-нец, и все при-ни-мал со сми-ре-ни-ем и уте-шал бра-тию, стра-дав-шую с ним вме-сте, го-во-ря: «Не скор-би-те и не безум-ствуй-те, Гос-подь все ви-дит, мы же страж-дем за сло-во ис-ти-ны, и это еще не веч-ная му-ка, все минет!» Его об-ло-жи-ли пе-нею в 500 руб-лей за то, что «Ду-ха Свя-та-го не ис-по-ве-ды-вал, яко огнь есть». Пре-по-доб-ный же, стоя в же-ле-зах, тол-кав-шим и опле-вав-шим его го-во-рил: «Де-нег не имею, да и да-вать не за что: ли-хо чер-не-цу то, ес-ли рас-стричь его ве-лят, а ес-ли толь-ко до-стричь, то ему ве-нец и ра-дость. Мне гро-зят Си-би-рью и Со-лов-ка-ми, но я рад то-му, это жизнь мне». Ко-гда дру-гие с со-стра-да-ни-ем го-во-ри-ли: «Что это за бе-да с то-бой, от-че?», он от-ве-чал: «Бе-ды нет ни-ка-кой, а ми-лость Бо-жия; пре-по-доб-ный Иона, мит-ро-по-лит, сми-ря-ет ме-ня по де-лам мо-им, чтобы не был я горд. Та-кие бе-ды и на-па-сти - ми-лость Бо-жия, а вот бе-да, ес-ли при-дет-ся го-реть в ге-ен-ском огне; да из-ба-вит нас Бог от се-го!». И по Москве рас-пу-сти-ли неле-пую мол-ву, буд-то бы Ди-о-ни-сий и его со-труд-ни-ки хо-тят огонь со-всем вы-ве-сти. Че-го не вы-ду-ма-ют и че-му не по-ве-рит неве-же-ство на-род-ное! И что же? Ра-ди сей без-рас-суд-ной кле-ве-ты чернь тол-па-ми вы-хо-ди-ла на ули-цу, ко-гда на ху-дой ло-ша-ди вез-ли свя-то-го стар-ца из оби-те-ли или в оби-тель, чтобы над ним по-те-шать-ся и бро-сать в него кам-ня-ми и гря-зью; но он, как незло-би-вый мла-де-нец, ни на ко-го не скор-бел.
А глав-ны-ми об-ви-ни-те-ля-ми угод-ни-ка Бо-жия бы-ли свои же, тро-иц-кие ино-ки: го-ло-вщик Логгин и устав-щик Фила-рет. Это бы-ли лю-ди крайне дерз-кие, неве-же-ствен-ные; Фила-рет от неве-же-ства го-во-рил да-же бо-го-хуль-ные ере-си. Их дер-зость и преж-де до-хо-ди-ла до то-го, что во вре-мя бо-го-слу-же-ния они вы-ры-ва-ли из рук ар-хи-манд-ри-та кни-ги. Слу-чи-лось од-на-жды, при недо-стат-ке пев-чих, что сам Ди-о-ни-сий, сой-дя с кли-ро-са, хо-тел чи-тать первую ста-тью. Логгин же, бро-сив-шись к нему, вы-рвал из рук его кни-гу и с боль-шим шу-мом опро-ки-нул ана-лой на со-блазн всей бра-тии. Пре-по-доб-ный толь-ко пе-ре-кре-стил-ся и мол-ча сел на кли-ро-се. Логгин про-чи-тал ста-тью и, по-дой-дя к ар-хи-манд-ри-ту, вме-сто про-ще-ния, на-чал пле-вать на него. То-гда Ди-о-ни-сий взял в ру-ки пас-тыр-ский свой жезл, мах-нул им, го-во-ря: «Пе-ре-стань, Логгин, не ме-шай пе-нию Бо-жию и бра-тию не сму-щай; мож-но нам о том пе-ре-го-во-рить и по-сле утре-ни». Логгин же до та-кой сте-пе-ни разъ-ярил-ся, что, вы-хва-тив по-сох из рук Ди-о-ни-сия, пе-ре-ло-мил его на че-ты-ре ча-сти и бро-сил об-лом-ки в на-сто-я-те-ля. За-пла-кал Ди-о-ни-сий и, воз-зрев к об-ра-зу Вла-дыч-ню, ска-зал: «Ты, Гос-по-ди Вла-ды-ко, все ве-да-ешь; про-сти ме-ня, греш-но-го, ибо я со-гре-шил пред То-бою, а не он». Сой-дя с ме-ста сво-е-го, стал он пе-ред ико-ной Бо-го-ма-те-ри и про-пла-кал всю утре-ню: оже-сто-чен-но-го же Логги-на все бра-тия не мог-ли при-ну-дить, чтобы ис-про-сил про-ще-ния у ар-хи-манд-ри-та. Устав-щик Фила-рет был дру-гом Логги-на. Этот был еще за-ме-ча-тель-нее. Он ино-че-ство-вал в оби-те-ли бо-лее 50 лет. Но «от про-сто-ты нена-уче-ния мыс-ли муд-ро-ва-ния недо-бра-го» имел он в се-бе и в од-ном и том же ли-це был и тем-ный невеж-да, и дерз-кий ере-тик. Прп. Ди-о-ни-сий скор-бел о Фила-ре-те, го-во-рил ему, что мно-го-лет-ние по-дви-ги свои гу-бит он са-мо-во-ли-ем неве-же-ства сво-е-го. Оба оже-сто-чен-ные ино-ка, раз-дра-жав-шись на свя-то-го, пи-са-ли про-тив него в дру-гие оби-те-ли, в царст-ву-ю-щий град, раз-ные воз-дви-гая на него коз-ни, от ко-то-рых он мно-го стра-дал. Вот ка-ко-вы бы-ли его кле-вет-ни-ки. «Смею ска-зать о воз-во-дя-щих на нас неправ-ду, - пи-сал стра-дав-ший вме-сте с Ди-о-ни-си-ем инок Ар-се-ний, - что не зна-ют они ни пра-во-сла-вия, ни кри-во-сла-вия, про-хо-дят Свя-щен-ные Пи-са-ния по бук-вам и не ста-ра-ют-ся по-ни-мать смысл их». Ка-ко-вы и все-гда рев-ни-те-ли ста-рой бук-вы.
Бы-ли, од-на-ко, и свет-лые ми-ну-ты в жиз-ни ве-ли-ко-го по-движ-ни-ка, ко-гда по-сле всех по-не-сен-ных им ис-ку-ше-ний за чи-сто-ту дог-ма-тов цер-ков-ных и по-сле ми-ра, на вре-мя упо-ко-ив-ше-го бед-ство-вав-шую Рос-сию, сам пат-ри-арх Иеру-са-лим-ский Фе-о-фан, в 1619 го-ду при-слан-ный Все-лен-ски-ми пат-ри-ар-ха-ми для под-дер-жа-ния на Ру-си пра-во-сла-вия, при-шел по-кло-нить-ся ве-ли-ко-му чу-до-твор-цу Сер-гию и по-ди-вить-ся по-дви-гам за-щит-ни-ков Лав-ры. Где еще мож-но бы-ло най-ти дру-го-го Ди-о-ни-сия, дру-го-го Ав-ра-амия и по-доб-ную им бра-тию? Иеру-са-лим-ский пат-ри-арх пред-ло-жил пат-ри-ар-ху Фила-ре-ту, вер-нув-ше-му-ся из поль-ско-го пле-на, об-лег-чить по-ло-же-ние пре-по-доб-но-го, и в его оправ-да-ние ука-зал на гре-че-ский треб-ник. Ди-о-ни-сий осво-бож-ден был из тем-ни-цы.
Слы-шав об оби-те-ли Пре-слав-ной Тро-и-цы, как во вре-мя ра-зо-ре-ния Мос-ков-ско-го го-су-дар-ства и са-мо-го цар-ству-ю-ще-го гра-да то ма-лое ме-сто спа-се-но бы-ло от поль-ских и ли-тов-ских на-ро-дов, уди-вил-ся пат-ри-арх и хо-тел ви-деть с же-ла-ни-ем сер-деч-ным не ме-сто, но див-но-го хра-ни-те-ля ме-ста, ве-ли-ко-го Сер-гия чу-до-твор-ца. Ко-гда же при-шел в его оби-тель, ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий со-тво-рил ему честь, по-до-ба-ю-щую цар-ско-му ве-ли-че-ству, и вы-шел в сре-те-ние вне мо-на-сты-ря, во мно-же-стве чи-на свя-щен-но-го. На-ут-ро же пат-ри-арх при-шел слу-жить ли-тур-гию. Но преж-де, от-пев мо-ле-бен, со мно-ги-ми сле-за-ми окроп-лял свя-той во-дой об-раз Жи-во-на-чаль-ной Тро-и-цы и Пре-свя-той Бо-го-ро-ди-цы и, при-сту-пив к мо-щам чу-до-твор-ца, ве-лел ар-хи-манд-ри-ту от-крыть свя-тое ли-цо Сер-гия - ужас объ-ял его и за-тре-пе-та-ло в нем серд-це, ко-гда узрел нетле-ние свя-то-го и ося-зал ру-ки его и но-ги.
«О ве-ли-кий Сер-гий чу-до-тво-рец, сла-ва свя-то-го жи-тия тво-е-го до-стиг-ла и до во-сто-ка сол-неч-но-го: бла-го-да-ре-ние Со-де-те-лю всех Хри-сту Бо-гу, что и на ко-нец ве-ка до-шед-шим лю-дям, ве-ру-ю-щим в Него, да-ет упо-ва-ние не от-па-дать от пра-вил ве-ры, ра-ди мо-литв Пре-свя-тыя Сво-ея Ма-те-ри, и вас ра-ди, со все-ми свя-ты-ми под-ви-зав-ши-ми-ся в бла-го-че-стии». Ска-зав сие, со-вер-шил сам ли-тур-гию.
По со-вер-ше-нии ли-тур-гии мо-лил его Ди-о-ни-сий со-вер-шить успо-ко-е-ние се-бе и всем при-шед-шим с ним из Иеру-са-ли-ма, и на тра-пе-зе воз-да-на бы-ла ему по-честь, как ца-рям мос-ков-ским, ко-гда при-хо-дят на по-кло-не-ние в празд-ни-ки. Свя-тей-ший Фео-фан, си-дя за обиль-ной тра-пе-зой с бра-ти-ей, ни-че-го не вку-шал и был неуте-шен от пла-ча, хо-тя тор-же-ство со-вер-ша-лось с пе-ни-ем ли-ков. Но пат-ри-арх, ду-хом ура-зу-мев их пе-чаль, ска-зал Ди-о-ни-сию и всей бра-тии: «Что сму-ща-е-тесь? Не скор-би-те о сле-зах мо-их, ибо ра-до-стью ве-се-лит-ся о вас серд-це мое; не ищу я че-го-ли-бо ва-ше-го, но вас са-мих, по гла-го-лу апо-сто-ла: “Вы бо ра-дость моя и ве-нец” (1Фес.2,19), ибо здра-вых вас об-рел. Преж-де слы-ша-ли все Церк-ви Во-сточ-ные скорбь ва-шу и труд, ка-кие подъ-яли за Хри-ста от го-ня-щих вас, ра-ди пра-вой ве-ры, и мне небезыз-вест-но бы-ло о всех при-клю-чив-ших-ся бе-дах. Ныне же еще нечто про-шу у вас ви-деть, да воз-ве-се-лю-ся по же-ла-нию мо-е-му. Слы-шал я, что во вре-мя бе-ды рат-ной неко-то-рые ино-ки оби-те-ли ва-шей дерз-ну-ли воз-ло-жить на се-бя бро-ню и, при-няв ору-жие в ру-ки, ра-то-вать креп-ко; дай-те мне их ви-деть».
Уми-ли-тель-ное зре-ли-ще пред-став-ля-ла бе-се-да пат-ри-ар-ха со стар-ца-ми - за-щит-ни-ка-ми Лав-ры, под-ви-зав-ши-ми-ся во вре-мя ее оса-ды. Пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий при-нял бы-ло сие тре-бо-ва-ние с недо-уме-ни-ем, но по-движ-ни-ки доб-ро-воль-но вы-зва-лись: «Яви нас, от-че, Вла-ды-це на-ше-му; бу-ди все по во-ле его». И пред-став-ле-ны были пат-ри-ар-ху бо-лее два-дца-ти ино-ков, «ни-х-же пер-вый был име-нем Афа-на-сий Още-рин, зе-ло стар сый, и весь уже по-жел-тел в се-ди-нах». Пат-ри-арх спро-сил его: «Ты ли хо-дил на вой-ну и на-чаль-ство-вал пред вои му-че-ни-че-ски-ми?» Афа-на-сий от-вет-ство-вал: «Ей, Вла-ды-ко свя-тый, по-нуж-ден был сле-за-ми кров-ны-ми». Пат-ри-арх спро-сил еще: «Что ти свой-ствен-нее, ино-че-ство ли в мо-лит-вах осо-бо или по-двиг пред все-ми людь-ми?». Афа-на-сий, по-кло-нясь, от-вет-ство-вал: «Вся-кая вещь и де-ло, Вла-ды-ко свя-тый, во свое вре-мя по-зна-ва-ет-ся: у вас, свя-тых отец, от Гос-по-да Бо-га власть в ру-ку про-ща-ти и вя-за-ти, а не у всех; что тво-рю и со-тво-рих - в по-ве-ле-нии по-слу-ша-ния». И об-на-жив се-дую го-ло-ву свою, по-кло-нил-ся ему и ска-зал: «Из-вест-но ти бу-ди, Вла-ды-ко мой, се под-пись ла-ты-нян на гла-ве мо-ей от ору-жия; еще же и в ля-д-ви-ях мо-их шесть па-мя-тей свин-цо-вых об-ре-та-ют-ся; а в кел-лии си-дя, в мо-лит-вах, как мож-но най-ти бы-ло из во-ли та-ких бу-диль-ни-ков к воз-ды-ха-нию и сте-на-нию? А все се бысть не на-ше из-во-ле-ние, но по-слав-ших нас на служ-бу Бо-жию». Пат-ри-арх, без со-мне-ния, удо-вле-тво-рен-ный до-зна-ни-ем, что над во-ин-ствен-ным оду-шев-ле-ни-ем тем не ме-нее гос-под-ству-ет дух ино-че-ско-го бла-го-че-стия, сми-ре-ния и про-сто-ты, бла-го-сло-вил Афа-на-сия, по-це-ло-вал его «лю-безне», и про-чих его спо-движ-ни-ков от-пу-стил «с по-хваль-ни-ми сло-ве-сы».
По-том ве-лел пат-ри-арх петь ко-неч-ный мо-ле-бен Пре-свя-той Тро-и-це и, зна-ме-но-вав-шись у св. икон, по-до-шел ко гро-бу ве-ли-ко-го чу-до-твор-ца, снял с се-бя кло-бук и отер им ко-ле-но Сер-гия и но-ги до по-дош-вы и под-ло-жил под плес-на его со мно-ги-ми сле-за-ми, при-ник-нув мо-лит-вен-но ко гро-бу. А Ди-о-ни-сию ве-лел сто-ять без кло-бу-ка, с пре-кло-нен-ной гла-вой, и, взяв свой кло-бук из-под ног чу-до-твор-ца, по-це-ло-вал и дал це-ло-вать ар-хи-манд-ри-ту, воз-ло-жил ру-ку на его гла-ву. Ар-хи-ди-а-кон воз-гла-сил: «Вон-мем», а ар-хи-манд-рит Си-най-ской го-ры три-жды: «Ки-рие элей-сон». Пат-ри-арх же, воз-ло-жив кло-бук свой на Ди-о-ни-сия с мо-лит-вой, бла-го-сло-вил и це-ло-вал его в уста с си-ми сло-ва-ми: «Во имя От-ца, и Сы-на, и Свя-та-го Ду-ха, дал я те-бе бла-го-сло-ве-ние, сын мой, и зна-ме-но-вал те-бя в ве-ли-кой Рос-сии, сре-ди бра-тии тво-ей да бу-дешь пер-вый в ста-рей-шин-стве по бла-го-сло-ве-нию на-ше-му, так же и кто по те-бе бу-дет, да но-сит в сем свя-том ме-сте бла-го-сло-ве-ние на-ше, ве-ли-ча-ясь и хва-лясь на-шим сми-ре-ни-ем и ра-до-стно всех из-ве-щая: сие им да-но зна-ме-ние, что и пат-ри-ар-хи во-сточ-ные - по-клон-ни-ки суть се-му свя-то-му ме-сту, и честь свою пе-ред Свя-той Тро-и-цей оста-ви-ли, сняв с гла-вы сво-ей па-мять по се-бе, и по-ло-жи-ли под но-ги ве-ли-ко-му стра-жу и блю-сти-те-лю, бо-го-нос-но-му Сер-гию чу-до-твор-цу!» По-том ве-лел петь на обо-их кли-ро-сах: «Спа-си, Хри-сте Бо-же, от-ца на-ше-го ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия» и, об-ра-тясь к бра-тии, ска-зал: «За-пи-ши-те се-бе все сие, что со-вер-шил я над ар-хи-манд-ри-том, и ес-ли впредь кто из бра-тии на-шей при-дет сю-да на по-кло-не-ние, пусть ве-до-мо бу-дет из-во-ле-ние на-ше гря-ду-щим ро-дам, чтобы и вы не за-бы-ли на-ше сми-ре-ние и лю-бовь, и па-мя-то-ва-ли в сво-их мо-лит-вах».
Вся жизнь пре-по-доб-но-го бы-ла жиз-нью ис-тин-но-го Бо-жия по-движ-ни-ка. Боль-шую часть вре-ме-ни он про-во-дил в мо-лит-ве. «Кел-лия уста-ва не имать», - го-ва-ри-вал пре-по-доб-ный и в кел-лии чи-тал Псал-тирь с по-кло-на-ми, Еван-ге-лие и Апо-стол, вы-чи-ты-вал спол-на ака-фи-сты и ка-но-ны; в церк-ви вы-ста-и-вая все по-ло-жен-ные служ-бы, Ди-о-ни-сий со-вер-шал, кро-ме то-го, еже-днев-но по шесть и по во-семь мо-леб-нов. Ло-жил-ся спать за три ча-са до утре-ни и вста-вал все-гда так, что успе-вал еще по-ло-жить до нее три-ста по-кло-нов. В церк-ви со-блю-дал стро-го цер-ков-ный устав, сам пел и чи-тал на кли-ро-се, имея див-ный го-лос, так что все уте-ша-лись, вни-мая ему: как бы ти-хо ни чи-тал он, каж-дое сло-во бы-ло слыш-но во всех уг-лах и при-тво-рах хра-ма. При-зна-тель-ный к бла-го-тво-ри-те-лям оби-те-ли, он тре-бо-вал, чтобы чи-та-лись спол-на си-но-ди-ки на про-ско-ми-дии; во вре-мя со-бор-но-го слу-же-ния все иеро-мо-на-хи в епи-тра-хи-лях сто-я-ли в ал-та-ре и по-ми-на-ли име-на усоп-ших вклад-чи-ков. В каж-дую утре-ню об-хо-дил он цер-ковь и осмат-ри-вал, все ли в хра-ме. Он вы-хо-дил с бра-ти-ей и на ра-бо-ты мо-на-стыр-ские. У него бы-ли и ико-но-пис-цы, и ма-сте-ра се-реб-ря-ных дел. Бла-го-род-ные кня-зья лю-би-ли его и по-мо-га-ли, но бы-ли и та-кие вла-сто-люб-цы, ко-то-рые ему не толь-ко не по-мо-га-ли, но и оскорб-ля-ли его сло-вом и де-лом. Это не оста-нав-ли-ва-ло, од-на-ко, Ди-о-ни-сия до кон-ца жиз-ни от рев-ност-но-го обы-чая стро-ить и об-нов-лять церк-ви, и по-сле его смер-ти мно-го оста-лось утва-ри, при-го-тов-лен-ной им для об-нов-ле-ния хра-мов. Он усерд-но за-бо-тил-ся о хра-мах Бо-жи-их не толь-ко в сво-ей оби-те-ли, но и по се-лам мо-на-стыр-ским, где по-стро-е-но им несколь-ко церк-вей по-сле поль-ско-го раз-гро-ма. Один из этих хра-мов в 1844 го-ду был пе-ре-не-сен из се-ла Под-со-се-нья в но-во-ос-но-ван-ный то-гда Геф-си-ман-ский скит близ Сер-ги-е-вой Лав-ры, где и те-перь при-вле-ка-ет он всех бо-го-моль-цев сво-ей изящ-ной про-сто-той. По бла-го-сло-ве-нию ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия и при его соб-ствен-но-руч-ной ре-дак-ции ру-ко-пи-сей был со-став-лен сбор-ник Че-тьих-Ми-ней.
При нем бы-ло в оби-те-ли 30 иеро-мо-на-хов и 15 иеро-ди-а-ко-нов, а на кли-ро-сах сто-я-ло до 30 пев-цов. Каж-дую утре-ню сам ар-хи-манд-рит об-хо-дил всю цер-ковь со све-чой в ру-ках, по-смот-реть, нет ли от-сут-ству-ю-щих, и ес-ли ко-го не бы-ло - по-сы-лал за ним бу-диль-щи-ков; ес-ли же кто дей-стви-тель-но был бо-лен, то про-мыш-лял об нем как врач ду-хов-ный и те-лес-ный и упо-ко-е-вал в боль-ни-це. При-ме-ром сво-е-го сми-рен-но-муд-рия он вну-шил ра-вен-ство меж-ду бра-ти-ей, а по-движ-ни-че-ская жизнь его воз-буж-да-ла и дру-гих к по-дви-гам: по его при-ме-ру да-же стар-цы по-чтен-ные не сты-ди-лись хо-дить зво-нить на ко-ло-коль-ню. В об-ра-ще-нии с бра-ти-ей он был кро-ток и пря-мо-ду-шен, при-вет-лив и тер-пе-лив. Он во всем ста-рал-ся под-ра-жать ве-ли-ко-му в сво-ем сми-ре-нии ос-но-ва-те-лю Лав-ры пре-по-доб-но-му Сер-гию, и чу-до-тво-рец ви-ди-мо по-мо-гал ему во всем. «Я, мно-го-греш-ный, - пи-шет ке-ларь Си-мон, - и про-чие из бра-тии, жив-шие с ним в од-ной кел-лии, ни-ко-гда не слы-ша-ли от него ни-че-го обид-но-го. Он все-гда имел обы-чай го-во-рить: “Сде-лай, ес-ли хо-чешь”, так что неко-то-рые, не по-ни-мая его про-сто-го нра-ва, остав-ля-ли без ис-пол-не-ния его по-ве-ле-ние, ду-мая, что он остав-ля-ет де-ло на их во-лю. То-гда доб-рый на-став-ник, по-мол-чав немно-го, го-во-рил: “Вре-мя, брат, ис-пол-нить по-ве-лен-ное: иди и сде-лай”».
Из уче-ни-ков пре-по-доб-но-го Ди-о-ни-сия осо-бен-но из-ве-стен До-ро-фей, про-зван-ный «ве-ли-ким труд-ни-ком». Ке-ларь Си-мон Аза-рьин пи-шет о нем: «Он был так тверд в бла-го-че-стии, что ни-ко-гда не остав-лял цер-ков-но-го бо-го-слу-же-ния, ис-прав-лял долж-ность по-но-ма-ря в церк-ви чу-до-твор-ца Ни-ко-на и вме-сте с тем был ка-но-нар-хом и кни-го-хра-ни-те-лем. В кел-лии он вы-пол-нял пра-ви-ло необык-но-вен-ное: еже-днев-но чи-тал всю Псал-тирь и клал до ты-ся-чи по-кло-нов; при том же пи-сал кни-ги. Спал он весь-ма ма-ло и ни-ко-гда не ло-жил-ся для сна. Пи-щею его слу-жил ку-сок хле-ба и лож-ка то-лок-на и при-том не каж-дый день; толь-ко по убеж-де-нию ар-хи-манд-ри-та стал он есть хлеб с ква-сом». И дру-гой пи-са-тель жи-тия Ди-о-ни-си-е-ва, клю-чарь Иоанн (свя-щен-ник Иоанн На-сед-ка), быв-ший так-же са-мо-вид-цем стро-го-го жи-тия До-ро-фе-е-ва, сви-де-тель-ству-ет о нем, что он все-гда по Ди-о-ни-си-е-ву при-ка-зу раз-но-сил боль-ным и ра-не-ным, му-чен-ным от вра-гов, день-ги и одеж-ды от щед-ро-го на-сто-я-те-ля и по це-лым но-чам оста-вал-ся си-деть с боль-ны-ми и увеч-ны-ми. Бра-тья, на-блю-дав-шие втайне за об-ра-зом его жиз-ни, ви-де-ли, что и по неде-ле ино-гда не при-ка-сал-ся он ни к ка-кой пи-ще; неко-то-рые из ке-лей-ни-ков над ним сме-я-лись, и бы-ло у них пре-ние: од-ни го-во-ри-ли, что он свят, дру-гие же, что бе-зу-мен. «Од-на-жды я сам над ним по-сме-ял-ся, бу-дучи еще ми-ря-ни-ном, - сми-рен-но со-зна-ет-ся пи-са-тель, - но в ту ми-ну-ту взо-шед-ший Ди-о-ни-сий стро-го на ме-ня по-смот-рел, ни-че-го, од-на-ко, не ска-зал мне. Де-сять лет спу-стя, ко-гда был я у ар-хи-ман-дри-та в Москве на ду-хов-ной бе-се-де, про-сил я се-бе про-ще-ния со сле-за-ми за свой по-сту-пок, и он с крот-кой улыб-кой, бла-го-сло-вив ме-ня, ска-зал: «Не во-про-шай ино-ков о де-лах ино-че-ских, ибо для нас ве-ли-кая бе-да от-кры-вать вам, ми-ря-нам на-ши тай-ны; пи-са-но: шуй-ца да не весть, что тво-рит дес-ни-ца». Од-на-ко по на-сто-я-нию мо-е-му ста-рец про-дол-жал: «Вы, ми-ряне, ес-ли что услы-ши-те ху-до-го о чер-не-цах, неле-по их осуж-да-е-те, и это вам грех, а что услы-ши-те доб-ро-го, о том не рев-ну-е-те, но толь-ко хва-ли-те, и от ва-ших по-хвал еще боль-ше при-хо-дит ис-ку-ше-ние, ибо от то-го про-ис-хо-дит ве-ли-ча-ние и гор-дость; по-се-му для нас по-лез-нее при-кры-вать от вас де-ла свои, чтобы ни-кто о нас не слы-шал». Ко-гда спро-сил я: «Что озна-чал стро-гий его взгляд, ко-гда встре-тил-ся мне в кел-лии у До-ро-фея?», Ди-о-ни-сий от-ве-чал: «Не гне-вай-ся, свя-то-му му-жу вы по-сме-я-лись, и всем вам грех, по-то-му что не по-ва-ше-му он жил. Мне ве-до-мо, что не толь-ко сед-ми-цу он не едал, но ча-сто до де-ся-ти дней и лож-ки во-ды не вы-пи-вал, а на все служ-бы хо-дил наг, и бос, и го-ло-ден, да еще не умы-вая ни ли-ца, ни рук, а ко-гда хо-дил за боль-ны-ми, то не гну-шал-ся ни-ка-ких смрад-ных ран. Бу-дучи же юн воз-рас-том, му-чил-ся блуд-ны-ми по-мыс-ла-ми, и по-то-му так силь-но ра-то-вал про-тив вра-гов мыс-лен-ных алч-бой и жаж-дой; вме-сто во-ды слу-жи-ли ему для омо-ве-ния ли-ца, пер-сей и рук сле-зы, непре-стан-но им про-ли-ва-е-мые при со-вер-ше-нии доб-рых сво-их дел, по-то-му и бо-лез-нен-но мне ста-ло сме-хо-твор-ство ва-ше».
В 1622 го-ду свя-той ар-хи-манд-рит со-брал-ся ехать в Моск-ву. Бра-тия при-шли про-сить бла-го-сло-ве-ние, вы-шел к нему и До-ро-фей в тяж-кой немо-щи, про-ся се-бе по-след-не-го про-ще-ния: «Уже вре-мя мое под-хо-дит, - го-во-рил он, - и смерть при-бли-жа-ет-ся; о еди-ном скорб-лю, что уез-жа-ешь от-сю-да, и не спо-доб-люсь по-гре-бе-ния от тво-ей пре-по-доб-ной ру-ки». Ди-о-ни-сий как бы шу-тя ска-зал ему с за-пре-ще-ни-ем: «До мо-е-го при-ез-да будь жив, и не дер-зай уми-рать, до-ко-ле не воз-вра-щусь от са-мо-держ-ца; то-гда умрешь, ес-ли Гос-подь из-во-лит, и я по-гре-бу те-бя». - «Во-ля Гос-под-ня да бу-дет», - от-ве-чал До-ро-фей. Ар-хи-манд-рит был в сто-ли-це и воз-вра-тил-ся в Лав-ру. Ко-гда с мо-лит-вой вхо-дил в се-ни сво-ей кел-лии и опять при-ни-ма-ла от него бла-го-сло-ве-ние бра-тия, вы-шел и До-ро-фей, уже в ко-неч-ном из-не-мо-же-нии, про-ся се-бе про-ще-ния. Пре-по-доб-ный бла-го-сло-вил его и про-стил-ся с ним, а сам, об-ла-чив-шись, по-шел в цер-ковь петь мо-ле-бен за цар-ское здра-вие, по обы-чаю, ка-кой со-дер-жал-ся в оби-те-ли Тро-иц-кой, на при-ез-де от вла-стей. Но он еще не успел на-чать мо-леб-на, ко-гда при-шли ска-зать ему, что До-ро-фей ото-шел ко Гос-по-ду. Про-сле-зил-ся Ди-о-ни-сий и по-хо-ро-нил тру-же-ни-ка со-бо-ром, со всей бра-ти-ей.
Крот-ко-му стар-цу Бо-жию до кон-ца дней сво-их при-вел Бог тер-петь скор-би и ис-ку-ше-ния от сво-их со-бра-тий, ибо веч-ный враг ро-да че-ло-ве-че-ско-го во-ору-жил-ся про-тив свя-то-го, чтобы ка-ким-ни-будь об-ра-зом уда-лить его из оби-те-ли чу-до-твор-ца Сер-гия. Диа-вол воз-бу-дил од-но-го чер-не-ца, по име-ни Ра-фа-ил, при-слан-но-го под на-ча-ло в оби-тель Сер-ги-е-ву от пат-ри-ар-ха Фила-ре-та и да-же око-ван-но-го за раз-лич-ные кра-мо-лы и по-ступ-ки, недо-стой-но-го мо-на-ше-ско-го зва-ния. По-ку-ша-ясь осво-бо-дить-ся от уз, Ра-фа-ил окле-ве-тал пре-по-доб-но-го Ди-о-ни-сия пе-ред ца-рем Ми-ха-и-лом и пат-ри-ар-хом Фила-ре-том, и стар-ца по-тре-бо-ва-ли в Моск-ву. Мно-го скор-бе-ли о том и бра-тия, сви-де-тель-ствуя о пра-вед-ном жи-тии его, и в ско-ром вре-ме-ни был он от-пу-щен в Лав-ру, а кле-вет-ни-ки его со-сла-ны в за-то-че-ние, по-лу-чив до-стой-ную мзду за свое без-за-ко-ние. Вско-ре за сим ис-ку-ше-ни-ем по-сле-до-ва-ло и дру-гое. Эко-ном оби-те-ли Сер-ги-е-вой, бу-дучи вла-сто-лю-бив, не пи-тая в серд-це стра-ха Бо-жия, окле-ве-тал ар-хи-манд-ри-та, буд-то бы ни во что вме-ня-ет по-ве-ле-ние цар-ское и свя-ти-тель-ское; лу-кав-ством сво-им до та-ко-го бес-че-стия до-вел бла-жен-но-го му-жа, что был он ввер-жен в тем-ное и смрад-ное ме-сто, где втайне про-был три дня в за-то-че-нии.
И столь ве-ли-ко бы-ло тер-пе-ние и сми-рен-но-муд-рие свя-то-го, что ни-кто да-же не узнал о его стра-да-нии, кро-ме ду-хов-ни-ка; по-сле мно-гих угроз от пат-ри-ар-ха был он, од-на-ко, от-пу-щен в Лав-ру. Но эко-ном тай-ны-ми гра-мо-та-ми про-дол-жал еще кле-ве-тать на него, буд-то бы Ди-о-ни-сий про-мыш-ля-ет се-бе пат-ри-ар-ше-ство, и до-шел до та-ко-го безум-ства, «что од-на-жды на со-бо-ре при всей бра-тии, не сты-дясь чест-на-го ли-ца его», дерз-нул бить по ла-ни-там, и с бес-че-сти-ем за-пер на-сто-я-те-ля в кел-лию, от-ку-да не вы-пус-кал его че-ты-ре дня к цер-ков-но-му пе-нию. Сам бла-го-вер-ный го-су-дарь, услы-шав о том, вла-стью дер-жав-ной осво-бо-дил стра-даль-ца и, бу-дучи в оби-те-ли, пе-ред всей бра-ти-ей сде-лал рас-сле-до-ва-ние о его стра-да-ни-ях. Но пре-по-доб-ный Ди-о-ни-сий все по-крыл лю-бо-вью и всех пред-ста-вил се-бе доб-ро-хо-та-ми, се-бя од-но-го пред-став-ляя во всем ви-нов-ным. Та-ким об-ра-зом гнев цар-ский пре-ло-жил на ми-лость, к об-ще-му изум-ле-нию всех быв-ших при ца-ре бо-яр. С тех пор са-мо-дер-жец уже не ве-рил ни-ка-кой кле-ве-те на свя-то-го му-жа до кон-ца его жиз-ни.
Ко-гда при-спе-ло вре-мя пре-став-ле-ния пре-по-доб-но-го, по сви-де-тель-ству быв-ших при нем, не от-лу-чал-ся он от церк-ви, но и в са-мой немо-щи сво-ей, еще на-ка-нуне смер-ти слу-жил обед-ню и да-же в день ис-хо-да сво-е-го был у утре-ни и обед-ни, ни в чем не же-лая умень-шить сво-е-го по-дви-га. В са-мый бла-го-вест ве-чер-ни встал он и, на-дев кло-бук и ман-тию, хо-тел ид-ти в цер-ковь, но, чув-ствуя ко-неч-ное из-не-мо-же-ние, стал про-сить се-бе схи-мы. Уже ед-ва мог пре-по-доб-ный сто-ять от бо-лез-ни и сел на по-стель, преж-де неже-ли бы-ли до-вер-ше-ны по-след-ние мо-лит-вы. Неко-то-рых из бра-тии он успел бла-го-сло-вить и, пе-ре-кре-стив ли-це свое, воз-лег на ло-же, за-крыл гла-за, сло-жил кре-сто-об-раз-но ру-ки свои и пре-дал чи-стую ду-шу свою в ру-ки Гос-под-ни, ве-ли-кий оста-вив по се-бе плач и се-то-ва-ние бра-тии. Ко-гда бы-ло по-ло-же-но во гроб те-ло его, все на него с услаж-де-ни-ем взи-ра-ли, по-то-му что ли-цо его бы-ло бла-го-леп-но, очи и уста ве-се-лые, и в ту ми-ну-ту мно-гие из ико-но-пис-цев, люб-ви ра-ди, спи-са-ли бла-го-ле-пие ли-ца его, чтобы та-кой бла-жен-ный муж у всех в па-мя-ти веч-ной пре-бы-вал. Сам пат-ри-арх Фила-рет по-же-лал со-вер-шить над ним от-пе-ва-ние, для че-го свя-тые мо-щи его и бы-ли пе-ре-ве-зе-ны в Моск-ву, в Бо-го-яв-лен-ский мо-на-стырь, а по-том воз-вра-ще-ны в Лав-ру для по-гре-бе-ния.
От мо-щей пре-по-доб-но-го по-лу-чил ис-це-ле-ние князь Алек-сей Во-ро-тын-ский, ко-то-рый был весь-ма лю-бим ар-хи-манд-ри-том. Бо-ля-щий ле-жал на од-ре и не мог сам прий-ти по-кло-нить-ся усоп-ше-му, но, па-мя-туя все-гдаш-нюю лю-бовь, по-слал от-слу-жить над ним па-ни-хи-ду, и как толь-ко при-нес-ли ему ку-тью по-сле служ-бы, немед-лен-но ис-це-лил-ся от сво-ей бо-лез-ни.
Свя-щен-ник Лавр-ской сло-бо-ды Фе-о-дор мно-го скор-бел, что не мог ви-деть кон-чи-ны пре-по-доб-но-го. И вот во сне ви-дит он, буд-то спе-шит с дру-ги-ми при-нять про-ще-ние Ди-о-ни-сия, но свя-той го-во-рит ему: «Для че-го ты спе-шишь? Те бла-го-сло-ве-ние про-сят по-то-му, что оста-ют-ся здесь, а ты ско-ро пой-дешь за мной». Спу-стя во-семь дней Фе-о-дор скон-чал-ся.
И прис-ный уче-ник его Си-мон, пи-са-тель жи-тия, не при-сут-ство-вав-ший при его бла-жен-ной кон-чине, по-то-му что по-слан был учи-те-лем сво-им на-сто-я-тель-ство-вать в Ал-тыр-ский мо-на-стырь, за-ви-сев-ший то-гда от Лав-ры, ис-пы-тал над со-бой си-лу по-смерт-ных его мо-литв. Бу-дучи ни в чем не ви-но-вен, он вы-дан был за чу-жие гре-хи, и не ожи-да-лось ни-от-ку-да спа-се-ния. Од-на ино-ки-ня Хоть-ко-ва мо-на-сты-ря, по име-ни Ве-ра, слы-ша о бе-де Си-мо-но-вой, со сле-за-ми о нем мо-ли-лась, при-зы-вая на по-мощь пре-по-доб-но-го Ди-о-ни-сия. И вот она ви-дит во сне бла-го-леп-ный храм и свя-ти-те-лей в об-ла-че-нии, вос-хо-дя-щих на сту-пе-ни, а вслед за ни-ми и Ди-о-ни-сия, под-дер-жи-ва-е-мо-го дву-мя диа-ко-на-ми. Ино-ки-ня при-па-ла к но-гам его, как бы к жи-во-му, про-ся по-мо-щи бес-по-мощ-но-му, и вос-кли-цая: «Гос-по-ди! Тот, ко-го Ты лю-бил, нын-че силь-но стра-да-ет и ни от ко-го не име-ет по-мо-щи». Ди-о-ни-сий же, при-кос-нув-шись до нее ру-кой, под-нял ее, го-во-ря: «Не скор-би, бу-дет ему ми-лость Бо-жия и из-бав-ле-ние от та-кой на-па-сти, от ме-ня же вам бла-го-сло-ве-ние». С си-ми сло-ва-ми он скрыл-ся, и дей-стви-тель-но, вско-ре осво-бо-дил-ся от на-па-сти Си-мон, из-ве-щен-ный о чуд-ном ви-де-нии сы-ном ино-ки-ни Ве-ры Ми-ха-и-лом.
Свя-щен-но-и-нок Пор-фи-рий, жив-ший дол-го в од-ной кел-лии с пре-по-доб-ным, был уже ар-хи-манд-ри-том в Рож-де-ствен-ской оби-те-ли го-ро-да Вла-ди-ми-ра, ко-гда услы-шал о его кон-чине. Силь-но скор-бел он, при-во-дя се-бе на па-мять все его стра-да-ния, и мо-лил все-мо-гу-ще-го Бо-га явить ему: вос-при-нял ли пре-по-доб-ный мзду свою за мно-го-стра-даль-ный по-двиг. По-сле дол-гой мо-лит-вы уви-дел он же-лан-но-го ему ар-хи-манд-ри-та Ди-о-ни-сия си-дя-щим, при-пав-ши к но-гам его, с ра-дост-ны-ми сле-за-ми про-сил он бла-го-сло-ве-ния и го-во-рил ему: «От-че Ди-о-ни-сие, по-ве-дай мне, об-рел ли ты бла-го-дать от Все-щед-ро-го По-да-те-ля за та-кое мно-го-стра-даль-ство и креп-кие по-дви-ги?» Ди-о-ни-сий же, бла-го-сло-вив его, ска-зал уте-ши-тель-ное сло-во: «Ра-дуй-ся со мною, Пор-фи-рий, ибо ве-ли-кую вос-при-ял я бла-го-дать у Бо-га». Впо-след-ствии сей Пор-фи-рий был по-слан ар-хи-манд-ри-том в Псков, а по-том пе-ре-ве-ден в Моск-ву, в Ан-д-ро-ни-ев мо-на-стырь, где и скон-чал-ся.
В 1652 го-ду в Ве-ли-кий пост по-ве-ле-ни-ем ца-ря Алек-сея Ми-хай-ло-ви-ча мит-ро-по-лит Ро-стов-ский Вар-ла-ам по-слан был с бо-яри-ном Сал-ты-ко-вым в го-род Ста-ри-цу для пе-ре-не-се-ния из Бо-го-ро-дич-ной оби-те-ли те-ла свя-тей-ше-го пат-ри-ар-ха Иова. В на-ве-че-рие их от-прав-ле-ния с мо-ща-ми к Москве явил-ся к мит-ро-по-ли-ту Вар-ла-а-му ар-хи-манд-рит Ди-о-ни-сий, ко-гда мит-ро-по-лит слу-шал утре-ню на свя-ти-тель-ском ме-сте. Ему пред-ста-ви-лось, что Ди-о-ни-сий взо-шел с ка-диль-ни-цей в ру-ках и, раз-ду-вая уго-лья, по-ка-дил спер-ва об-ра-за, а по-том свя-ти-те-ля и вне-зап-но стал неви-дим, оста-вив толь-ко по се-бе чуд-ное бла-го-во-ние. И по-до-ба-ло се-му ве-ли-ко-му му-жу, по-гре-бав-ше-му неког-да мно-го-стра-даль-но-го Иова пат-ри-ар-ха, при-сут-ство-вать при пе-ре-не-се-нии мо-щей его в сто-ли-цу.
Ин кондак преподобному Дионисию, архимандриту Радонежскому, глас 4
Пра́вило ве́ры, столп благоче́стия/ был еси́, Богоно́сне Диони́сие,/ яви́в в себе́ о́браз и приме́р/ преуспе́яния доброде́тели и по́двигов:/ се́ю Ева́нгельскою мре́жею/ мно́гих улови́л еси́ подража́телей,/ подая́ блестя́щею на Небеси́ сла́вою свое́ю/ ре́вность к соде́йствованию на по́льзу правове́рных./ Те́мже мы, ны́не воспева́юще сия́, мо́лим тя,/ да хода́тайствуеши о стране́ на́шей// и о всем Це́ркви исполне́нии.
Перевод: Правилом веры, столпом ты был, Дионисий, явив собой образ и пример успеха в и подвигах, этой евангельской сетью многих поймал последователей, подавая им блистающей с Небес славой своей к содействию на пользу православных. Потому мы, сегодня воспевая тебя, молим: «Будь заступником о стране нашей и обо всей полноте церковной».
Молитва преподобному Дионисию, архимандриту Радонежскому
От млады́х ногте́й возлюби́вый Христа́, преподо́бне Диони́сие, - сотвори́ моли́твами свои́ми, да и на́ши сердца́ свяще́нным любве́ Бо́жия огне́м пламене́ют, не то́кмо в ю́ности, но и в ста́рости да не погаса́ют, возжига́ема теплото́ю ве́ры. Возложи́вый на ся подви́жниче яре́м Ева́нгельский, и о́ный обре́тший благи́м и ле́гким, до конца́ о́ный му́жественно соверши́л еси́, сподо́бившися венца́ торже́ственнаго, я́ко победи́тель, - и нам помози́, тя́гостное вре́мя жития́ сего́ му́жественно понести́ и, соблю́дше ве́ру до конца́, сподо́битися милосе́рдаго от Бо́га воздая́ния. Быв тща́тельный и ре́вностный зва́ния, от Бо́га тебе́ возложе́ннаго испо́лнитель, - помози́ и нам, проходи́ти зва́ния на́ши, неосла́бно, подкрепля́я нас упова́нием по́мощи на Всеси́льнаго. Мно́гия ко́зни и страда́ния от злоко́зненных враго́в великоду́шно претерпе́вый, свя́те Диони́сие, - и нам, окруже́нным сетя́ми вра́жиими и разли́чным искуше́нием подлежа́щим, моли́твами твои́ми испроси́ свы́ше по́мощь на побежде́ние и попра́ние о́ных. Всегда́ умерщвля́я посто́м, моли́твами и бде́нием плоть свою́ и о́ную соде́лал еси́ хра́мом Животворя́щаго Ду́ха, - и нас святы́й приме́р твой да возбужда́ет подража́ти следа́м твои́м, и улучи́ти вре́мя к покая́нию и оставле́нию грехо́в на́ших. Быв горя́щий к сла́ве Це́ркве и оте́чества ревни́тель, - исхода́тайствуй моли́твами твои́ми мир Це́ркви Правосла́вно-Росси́йской, оте́честву на́шему благоде́нствие, оби́тели Се́ргиевой, твои́м правле́нием благоустро́енной и защище́нной, всемогу́щее покрови́тельство, нам же всем, к тебе́ с любо́вию притека́ющим, здра́вие и спасе́ние, да прославля́ем просла́вльшаго тя Го́спода ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Случайный тест
Цитата дня
Возлюби ближнего - и Господь возлюбит тебя.
архим. Модест (Потапов)
Этот день в истории
33 год. Как указывает нам месяцеслов, изданный в 1869 г., в этот день Воскрес Иисус Христос. Воины, охранявшие Гроб Спасителя, засвидетельствовали первосвященникам о Его Воскресении, но те подкупили стражей говорить, что ученики Христа украли Его тело, когда они спали (Мф. 28, 11-13)
(в миру Давид Федорович Зобниковский) - архимандрит Троицко-Сергиевой лавры; род. в городе Ржеве около 1570-71 гг. Был сельским священником; по смерти жены постригся в монахи Богородицкого монастыря (в Старице); в 1605 г. там же был поставлен в архимандриты; часто ездил в Москву по делам монастыря, сошелся с патриархом Гермогеном и не раз выходил вместе с ним для увещания народа, возмущавшегося против Шуйского. В начале 1610 г. Дионисий был возведен в звание троицкого архимандрита. Прежде всего ему пришлось устраивать Лавру после осады ее поляками, продолжавшейся 16 месяцев, призревать больных и голодных и погребать умерших. Сохранилось известие, что в течение 3-х недель, следовавших за его приездом в монастырь, было погребено более 3000 чел. Важной услугой были и грамоты, которые он рассылал с гонцами по городам, призывая всех ратных людей для спасения отечества от поляков и возбуждая богатых к пожертвованиям. В этом деле ему сильно помогал келарь монастыря, Авраамий Палицын. По мнению некоторых исследователей, грамотой Дионисия были подняты Минин и нижегородцы. Когда Пожарский и Минин шли к Москве, Дионисий и Палицын писали к ним грамоты, торопили их идти скорее, чтобы предупредить Ходкевича, уговорили казаков примкнуть к отряду Пожарского и тем способствовали окончательному освобождению Москвы от поляков.
Когда, по воцарении Михаила Федоровича, был восстановлен в Москве Печатный двор и приступили к печатанию церковного Требника, то это дело поручили Дионисию, дав ему в помощники хорошо знакомых "с книжным учением, грамматикой и риторикой" троицких монахов Арсения и Антония и свящ. Ивана Наседка. Рассматривая старый "Потребник", Дионисий нашел в нем неправильности и ошибки и решился устранить их. Затем он исправил и некоторые другие богослужебные книги, отпечатал и разослал евангельские и апостольские беседы, переведенные некогда Максимом Греком. Это возбудило против него многих монахов и священников, которые нашли поддержку у крутицкого митрополита Ионы и матери царя, и Дионисий был вызван в Москву, где должен был защищаться от обвинений. Сильные противники скоро объявили его еретиком, приговорили к пене в 500 р. и, за неимением у него денег, пытали его в течение нескольких дней, а затем заточили в московском Новоспасском монастыре. Поставленный в 1619 г. в патриархи, Филарет, вместе с иерусалимским патриархом Феофаном, рассмотрел дело Дионисия, нашел его правым и "с честью воротил" в Троицкий монастырь. Принимая разные меры к улучшению хозяйства и быта монастыря, Дионисий старался искоренять пороки монахов, но этим вооружил их против себя; они поссорили его даже с Филаретом, который подверг его 3-дневному тюремному аресту, и все настоятельство Дионисия сделали для него временем тяжких испытаний и невзгод, пользуясь его кротким и добрым характером. Умер Дионисий в мае 1633 г.
Ср. Горский, "Историческое описание Лавры"; Забелин, "Пожарский" (М., 1884); Костомаров, "Русская история в жизнеописаниях", т. I; Поспелов, "Преп. Дионисий, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря" (в "Чтениях общ. любит. духовного просвещения" за 1865 г., ч. II); Скворцов, "Дионисий Зобниковский, арх. Троице-Сергиева монастыря" ("Ист. исслед.", Тверь, 1890).
В. Рудаков.
Энциклопедия Брокгауз-Ефрон
Великий поборник отечества и церкви, деятельно любивший Русь, преподобный Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, родился в городе Ржеве, в Тверских пределах, и во святом крещении носил имя Давида.
Вскоре отец его переселился в соседний город Старицу, где и был старостою Ямской слободы. Здесь Давид у двух иноков местного монастыря научился грамоте и в отроческих годах уже стремился к царствию Божию.
Не склонен он был к семейной жизни, но, по настоянию родителей, женился и имел двух сыновей.
За благочестие свое он был поставлен священником и определен к церкви в одном из сел, принадлежавших Старицкому монастырю. Через шесть лет жена и дети умерли, и он постригся в Старицкой обители.
Вскоре Дионисий был избран казначеем в своей обители, а затем возведен в сан архимандрита. Он стал часто бывать в Москве и показываться среди народа. Он чувствовал, что может быть полезен родной земле, и вступил на тот путь служения Родине, на котором заслужил себе неизгладимую славу и бессмертие.
То было время великой смуты. Недалеко от Москвы, в принадлежащем Сергиеву монастырю селе Тушине, стояли польско-литовские войска с русскими изменниками, намереваясь захватить стольный город.
В людях тогда была страшная шаткость, все разделились: один брат сидел на Москве в совете с царем Василием, а другой в Тушине, с Тушинским вором. У многих отец был на Москве, а сын в Тушине, и так на битву сходились ежедневно сын против отца и брат против брата.
Однажды литовско-московские злодеи схватили патриарха Гермогена и с ругательством поволокли его на Лобное место: одни толкали святителя, другие швыряли ему в лицо и на голову песок, третьи, схватив его за грудь, дерзко трясли его. Все приближенные патриарха разбежались и оставили его беззащитным. Один Дионисий ни на шаг не отступал от него, страдал вместе с ним и с горькими слезами уговаривал прекратить это бесчинство.
Патриарх Гермоген ценил стойкость Дионисия и, ставя его в пример духовенству, говорил: «Смотрите на Старицкого архимандрита: никогда он от соборной церкви не отлучается; на царских и вселенских соборах всегда тут».
Вместе с ревностным келарем Авраамием Палицыным Дионисий стал из освобожденного Троицкого монастыря строить освобождение всего отечества.
По словам составителя жития, он был приветлив к братии и терпелив к досаждавшим ему, странноприимен и несребролюбив, нестяжателен и не любитель власти, следуя во всем благом обычае преподобному Сергию, избавляясь его именем от бед. Никто не отходил скорбен из его келии, но все удалялись из его келии, дивясь его незлобию, ибо гневное слово никогда не исходило из его уст.
Весь день он молился, прерывая свои молитвы только для приема братии; служил по пяти и шести молебнов, пел каноны Сладчайшему Иисусу и Богоматери. Ко сну он отходил только за три часа до благовеста к заутрене, и когда пономарь приходил принять от него благословение, он, зажегши у него свечу, пред иконой Пречистой полагал по триста земных поклонов, а потом обходил свою келейную братию, говоря: «Пора к утрене».
Он был великим храмоздателем: иные церкви сооружал вновь, другие обновлял после разорения и снабжал необходимой утварью, которая всегда у него была в запасе. Он держал для работ по церквам живописцев и золотых дел мастеров. Часть устраивал из своих достатков, часть из того, что ему приносили богомольцы, зная его попечение об убогих и о церквах.
Немедленно эти жертвы передавал туда, где в них нуждались, а сам не щадил своих сил в церковных и келейных молитвах за спасение душ щедрых дателей, которых всегда записывал в помянник, ежедневно прочитывая их имена на проскомидии.
Он не только обновил, таким образом, все ветхое в Троицком монастыре, но и во всех от него зависевших приходах медные, оловянные сосуды заменил серебряными. После его смерти осталось много утвари, приготовленной им для обновления храмов.
Он строго соблюдал весь чин церковный и сам пел на клиросе и читал, имея дивный голос, притом такой явственный, что если и тихо произносил какое слово, оно было слышно во всех углах и притворах.
Он был так красив и осанист, что едва ли мог кто с ним равняться. Лицо его, необыкновенно благолепное, было обрамлено длинной, широкой бородой, спускавшейся ниже груди, взор у него был ясный и веселый.
Каждую утреню сам архимандрит обходил всю церковь со свечой в руках, посмотреть, нет ли отсутствующих, и за такими посылал будильников. Он приучил братию к такому равенству, что и старцы ходили звонить на колокольню. Сам он выходил вместе с братией на полевые работы и в огороды.
Но величайшее значение архимандрита Дионисия - в тех трудах, которые совершил он по умиротворению России после великой смуты, когда Москва была разорена, и все высшие на Руси люди, от мала до велика, находились в плену, и всякий чин, и возраст, и пол мучился под огнем и мечом. Не было ни города, ни леса, ни пещеры, где можно было укрыться православным.
Дома, церкви и обители были повсюду сожигаемы и оскверняемы. Не только миряне, но и священный чин везде скитались нагие, босые и томимые голодом. И вот тогда по всем путям беглецы стремились в Троицкий монастырь. Вся обитель переполнилась умиравшими от голода и ран. Не только лежали по монастырю, но и в слободах и деревнях, и по дорогам, так что невозможно было всех исповедать и приобщить Святых Тайн.
Архимандрит Дионисий стал обсуждать с братией, как помочь несчастным. Братия и слуги монастырские обещали: «Если из монастырской казны после умерших или живых усердных людей и вкладчиков будут давать бедным на корм, на одежду и на лечение и работников для службы и погребения, то мы за головы свои и за жизнь свою не постоим».
Работа закипела. На монастырские средства стали строить деревянные дома для бедных и бесприютных. Нашлись для них и врачи. Один инок вспоминал впоследствии, что он со своим братом похоронил до четырех тысяч мертвецов. Как только находили обнаженного мертвеца в окрестностях лавры, которые все были усеяны трупами после шестнадцатимесячных тут действий польской рати, то немедленно посылали все нужное для погребения. Приставы ездили на конях по лесам смотреть, чтобы звери не съели замученных врагами, а если кто был жив, привозили в странноприимницы. Одежды от умерших раздавали бедным. Женщины шили и мыли беспрестанно рубашки и саваны, за что им давали из монастыря одежду и пищу.
Освобождение Москвы было самой дорогой мечтой для Дионисия. Все полтора года, пока Москва была в осаде, он, не переставая, в церкви Божией и в келии с великим плачем стоял на молитве.
У него был скорописец, который со слов его писал в города духовенству, к воеводам и к простым людям о том, что надо соединиться, всем миром подняться и идти на выручку Москвы. Он писал эти грамоты в Рязань и на север, в Ярославль и в Нижний, и в низовые города, и в Москву, и в Казань.
Эти грамоты расходились по всей Руси и подготовили великое освободительное движение, поднявшееся в Нижнем. Когда от Москвы приходили раненые, голодные, истомленные люди, Дионисий увещевал братию кормить их и уговорил к трогательному решению: жаловать им все, что у них было.
В течение сорока дней Троицкая братия питалась только небольшим количеством овсяного хлеба однажды в день, а в среду и пятницу вовсе ничего не ела и, сидя за трапезой, со слезами молилась.
Немощным и раненым с утра до вечера служила братия. Им приносили теплый и мягкий хлеб и различные плоды, сколько раз кто хотел в день, так что ни в полдень, ни в полночь не было покоя служителям, ибо приставы принуждали их немедленно удовлетворять просящих.
Сам Дионисий ни на час не давал себе покоя, постоянно обходя больных, снабжая их пищею и одеждою, и еще более - духовными врачествами. Многие желали исповедать свои грехи, требовали елеособорования, иные, изнемогая кровью и слезами, просили напутствования вечного. И все в смертный час приобщались Божественного Тела и Крови, так что никто не отходил неочищенным, с неомытыми ранами не только душевными, но и телесными.
И венчал Господь усилия Дионисия. Грамоты его подняли народ, собрали для великого дела «последних» русских людей. Князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин двинулись к Москве с воинством и достигли Сергиевой обители.
Дионисий совершил молебствие, провожал всем собором воевод и ратных людей на гору Волкушу и там остановился с крестом в руках, чтобы осенить их, священники же кропили святой водой.
В то время сильный ветер дул навстречу воинам: трудно было рати двигаться в путь при столь бурном ветре. Слезы текли по щекам Дионисия. Он обнадеживал воинство, советуя им призывать в помощь Господа и его Пречистую Матерь и Радонежских чудотворцев Сергия и Никона. Еще осенял он уходившую рать животворящим крестом, как ветер вдруг изменился и подул в тыл войску от самой обители.
Когда Москва была освобождена от поляков, в Кремль с торжественным пением вступили Дионисий и весь освященный собор, и плакали они при виде поругания польскими и литовскими людьми святынь московских.
Архимандрит Дионисий и келарь Троице-Сергиевой лавры Авраамий Палицын присутствовали на великом Земском соборе, при избрании на царство юного Михаила Феодоровича Романова.
Авраамий Палицын вместе с другими возвестил об избрании народа с Лобного места, и сам в числе великого посольства ходил оповестить Михаила об избрании его на царство. Он умолял юного царя променять тишину Ипатьевской обители на престол.
На пути к столице Михаил в Троицком монастыре с мольбой припадал к мощам преподобного Сергия, и Дионисий благословил Михаила на спасенное Русское царство. Впоследствии враги обвинили архимандрита Дионисия в порче церковных книг, исправлением которых он заведовал. Но на суде, в присутствии патриарха Филарета и великой старицы Марфы, обнаружилась полная правота преподобного.
Поселянин Е. Герои и подвижники лихолетья XVII века